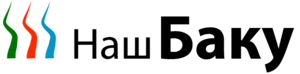Гурвич Арон Евсеевич
В течение многих лет я общалась по работе с интересным собеседником, остроумным человеком и прекрасным специалистом – Владимиром Евсеевичем Гурвичем. Он никогда не рассказывал о своей семье, только о сыне, которым очень гордился. А мальчик действительно, говорили, был очень одаренный. И вот теперь, через десятки лет, когда, к сожалению, не кого спросить и не у кого уточнить, я по крупицам собираю историю этой необыкновенной семьи.
Гурвич Арон Евсеевич - один из основоположников современной иммунохимии [править]
1918 - 1987
Родился в Павлограде Екатеринославской губернии в семье профессионального революционера-большевика.
Его отец - Евсей Аронович в 1922 году переехал в Баку с женой Анной (Хаей или Ханной) Янкелевной Гурвич (урожденная Козловичер) и детьми: Ароном, Владимиром и Томом.
Арон окончил МГУ (1941) по специальностям физиология человека и животных и динамика развития организма.
Осенью 1941 Арон ушел добровольцем на фронт. В частях народного ополчения участвовал в боях под Москвой, был ранен. В составе регулярных войск воевал под Харьковом, Сталинградом, освобождал Освенцим. Окончил войну в Праге в звании сержанта.
Его отец Евсей Аронович и брат Владимир также были призваны на фронт, и после войны вернулись в Баку.
С 1945 года Арон Евсеевич работал в Институте биологической и медицинской химии АМН СССР. В 1952-53г.г. – Арон и его брат Владимир, оба биологи, в разгар кампании, связанной с «делом врачей», несколько месяцев оставались без работы, но после смерти Сталина и оправдания врачей, оба восстановлены на работе. Владимир Евсеевич работал на кафедре биологии Азербайджанского медицинского института.
С 1961 года Арон Евсеевич по приглашению Л.А. Зильбера работал в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР, где организовал и возглавил лабораторию химии и биосинтеза антител. Доктор биологических наук (1962).
Умер Арон Евсеевич Гурвич 18 августа 1988 года.
Испытав на себе давление системы в 50-х годах, Арон Евсеевич активно содействовал диссидентскому движению 1960—80-х гг. Он участвовал в сборе средств в помощь семьям политзаключенных, оказывал поддержку «отказникам».
Вот как вспоминает об этом сотрудница его лаборатории Дина Абрамовна Эльгорт [править]
В 1968 г. Арон Евсеевич в числе других 122 ученых подписал письмо в защиту А. Гинзбурга. Александр Гинзбург был осужден по ст. 70 за составление «Белой книги», содержащей документы по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, вина которых заключалась в том, что они тайно, под псевдонимами, публиковали свои художественные произведения за границей. Кроме того, Гинзбургу вменялось «изготовление, хранение и распространение» самиздатского журнала «Феникс», который он издавал вдвоём с Юрием Галансковым, также осуждённым по ст. 79. (В 1972 г. Ю. Галансков умер в лагере).
В письме, подписанном Гурвичем, говорилось о многочисленных процессуальных нарушениях, допущенных в ходе суда над Гинзбургом. Авторы напоминали о трагических последствиях, к которым привели нарушения законности, имевшие место в нашей стране в недалеком прошлом. В заключение говорилось: мы не беремся ни защищать, ни осуждать подсудимых, для этого есть соответствующие органы, но суд должен проходить с соблюдением процессуального права, чтобы прошлое не повторилось, поэтому мы просим наказать тех, кто организовал этот лицеприятный суд, и провести процесс по всем правилам судопроизводства.
Письмо подписали ученые, включая академиков Александрова и Колмогорова. Все подписавшие имели степени не ниже докторов наук.
Арон Евсеевич ни с кем не советовался перед тем, как подписать это письмо: он считал недопустимым втягивать других в дела такого рода и перекладывать на кого-то часть своей ответственности.
«Письмо 122 учёных» было послано в ЦК КПСС, а также в газеты «Правда», «Известия» и «Комсомольская правда». Оно быстро попало за границу и через несколько дней его передавали зарубежные радиоголоса.
Было дано распоряжение: всех членов партии, подписавших письмо, осудить на партсобраниях, исключить из партии и потребовать от них публичного признания своей политической ошибки. Не-членов партии осудить на профсоюзных собраниях.
В институте началось «дело» Гурвича, тянувшееся больше года.
«Делу» был сразу придан антиеврейский характер: Гурвич заступается за Гинзбурга. Для Арона Евсеевича это оказалось как-то неожиданно: подписывая письмо, он меньше всего думал о национальной принадлежности Гинзбурга.
– Говоря по правде, он не столько Гинзбург, сколько Иванов: взял фамилию матери, когда родители развелись.
Арон Евсеевич говорил, что, если бы лет в 16 его спросили, кто он по национальности, он должен был бы немного подумать, чтобы вспомнить, – ну, как если бы сейчас его спросили, в каком районе Москвы он живет. По-видимому, инерция такого воспитания сохранялась очень долго. Во всяком случае, все близкие друзья Арона Евсеевича (Демихов, Родионов, Цветков...) были русские.
Версия «Гурвич заступается за Гинзбурга» подтверждалась тем, что в письме не упоминался Галансков. Дело в том, что у Галанскова при обыске нашли несколько долларов; это всем казалось аморальным: значит он работал за деньги!
Арон Евсеевич смотрел на вещи иначе:
– А прокурор, следователи, журналисты, которые пишут всякие гадости о Гинзбурге и Галанскове, – они, конечно, работают бесплатно!
Но письмо было коллективное, большинство подписавших боялись скомпрометировать себя заступничеством за небезупречного человека. Дина Абрамовна Эльгорт – научный сотрудник лаборатории химии и биосинтеза антител (лаб. А.Е. Гурвича) ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР. Глава печатается с разрешения автора Г. И. Абелев. Очерки научной жизни. Часть 2: Время. Глава I (начало)
Памяти А.Н.Гурвича[править]
Г. И. Дризлих «Арон Евсеевич Гурвич, каким я его помню»[править]
Мне бы очень хотелось рассказать о моем Учителе, Ароне Евсеевиче Гурвиче. Он этого более чем заслуживает. Все, кто его знал, считали его уникальной личностью.
Прежде всего, он был мудрый человек. И хотя евреи, его окружавшие на работе, были полностью ассимилированными, не знали идиш и понятия не имели о еврейских традициях, они наградили его подпольной кличкой «ребе».
Действительно, благодаря своей мудрости и чрезвычайно высоким моральным стандартам, он был желанным советчиком. У него даже была официальная общественная функция – председатель товарищеского суда.
Я проработал в его лаборатории более 16-ти лет до моего отъезда в Израиль, сначала аспирантом, затем – старшим лаборантом и затем – младшим научным сотрудником со степенью.
13 февраля 1978 года я прибыл в благословенную страну Израиля. Этим актом я оборвал все связи, которые у меня установились за эти 16 лет. Остались одни воспоминания. Среди всех, кого помню, вспоминавшихся, Арон возвышался, как Эверест. Его я вспоминал чаще всех и по сей день вспоминаю очень часто.
Начнём с его основополагающих: «Как дальше жить – неясно» и «Люди не созданы для того, чтобы жить друг с другом». Эти чеканные формулировки, которые Арон так любил повторять, были для меня чрезвычайно актуальными именно в первые годы эмиграции, когда пришлось попытаться понять новые коды поведения, совершенно непривычные особенно для человека, выросшего в Союзе, и как-то приспособиться к этим кодам.
Всё было незнакомым, странным и непонятным и, естественно, не только каждый день, но и каждый час было неясно, как дальше жить. Ну и конечно, каждый день и час сталкиваешься с новыми незнакомыми людьми и каждый раз убеждаешься в том, что люди не созданы для того, чтобы жить друг с другом.
По моему мнению, после лагеря и войны, эмиграция – самое тяжелое испытание, выпадающие на долю человеку, даже если она зовется репатриацией. Все вновь приехавшие переживают эмиграционный шок, все в напряжении, жизнь – сплошная нервотрепка, а, как справедливо утверждал Арон, «все болезни от нервов, только сифилис от большой любви». До СПИДа он, к сожалению, не дожил. Семейные отношения и в мирное время оставляют желать лучшего, а эмиграция вносит в них свою суровую лепту. Это ещё один повод вспомнить Арона. Когда как-то вечером Игорь Абелев сказал: "Устал, пойду домой, отдохну." – Арон с удивлением прореагировал: «Разве дома можно отдохнуть?».
Очень часто я вспоминал и другое его основополагающее правило. Как-то я пришёл в лабораторию в мрачном расположении духа, и Арон спросил:"Что случилось, Жора?" - Я ответил: "С женой поругался." Тогда Арон сказал: «Разве можно ругаться с женой?» И на мой вопрос:"А что же делать?" – ответил: «Пассивно обороняться!» Ну разве такое можно забыть?
Перейду теперь к другой теме – Арон как учёный. Выражаясь высокопарно, наука – это добывание новых знаний. Это в теории. Однако на практике, особено на практике советской науки, научная работа в области экспериментальной биологии зачастую ничего общего с поиском нового не имела. Да и на Западе ситуация не столь однозначна. Арон неустанно искал новое. Высшая положительная оценка, которую он давал какой-то идее: «Этого никто не делал». Я с ним постоянно спорил на тему, что важнее в науке – быть первым или быть лучшим. Я считал, что важнее быть лучшим, Арон неизменно – первым. Ирония судьбы. Он приобрел международное имя не потому, что первым предложил иммуносорбент, а потому, что создал лучший иммуносорбент. Приехав в Израиль, я с радостью обнаружил, что ведущие компании по продаже реактивов продают целлюлозу, модифицированную по Гурвичу. Более того, химическое соединение, которое Арон впервые применил для присоединения белков к целлюлозе, было использовано – разумеется, с сылкой на Гурвича – для присоединения нуклеиновых кислот к бумажным дискам, применяемым для одного из основных методов молекулярной биологии – для гибридизации.
Ирония на этом не закончилась. Арон был первым, кого заинтриговал факт драматического торможения синтеза антител, и он со свойственной ему настойчивостью и изобретательностью пытался выясить механизм этого феномена, но без успеха. К сожалению, он опередил своё время. Когда он заинтересовался этой темой, о существовании специальных клеток, тормозящих иммунитет (так называемых Т-супрессоров) ничего еще не было известно, не говоря уже об открытом много позже механизме клеточного самоубийства.
Хочу отметить несколько особых черт его характера, которые оказали существенное влияние на его научную деятельность. Ему очень трудно было сделать выбор из нескольких возможностей. Для того, чтобы понять, о чём речь, я сошлюсь на самого Арона. Он рассказывал: «Андрей (его сын) ещё более нерешительный, чем я. Когда он, катаясь на лыжах, подходит к месту раздвоения лыжни, он может стоять час, не решаясь повернуть туда или сюда».
В работе самого Арона эта черта, однако, играла скорее положительную роль. Он долго колебался в выборе из многих возможностей, тем самым глубоко обдумывая каждую из них. Это, конечно, много лучше, чем бездумная импульсивная решительность. Другая особенность его характера, сказывавшаяся на его работе, – глубочайший пессимизм. Заканчивая ставить опыт, результаты которого можно будет прочесть только через 48 – 72 часа, он любил повторять: «Вот сейчас самое время радоваться, опыт поставлен успешно» – прозрачно намекая на то, что результaты, конечно, будут печальными.
Здесь я плавно перехожу к его стилю руководства аспирантами. Прежде всего, он был крайне либеральным руководителем, почти не давил, но был чрезвычайно скуп на похвалу. Когда я существенно упростил разработанный им оригинальный метод количественного определения антител в сыворотке крови и показал ему результат, он сказал: «Это вы, конечно, сделали из-за лени,» – и был совершенно прав.
Когда же я приходил к нему со своими многочисленными завиральными идеями, он неизменно демонстрировал глубокий пессимизм. Он, естественно, понимал проблему гораздо лучше, чем я, и видел далеко, но видел, главным образом, препятствия, которые не позволят реализовать предложенное. Я уходил от него огорчённый, расстроенный и обескураженный. Но через несколько дней, при случайной встрече в коридоре, он вдруг спрашивал: «Жора, а вы помните, вы предлагали сделать то-то и то-то, вы это сделали?» Я с возмущением восклицал: «Но вы же сказали, что ничего не получится» – на что он с усмешкой говорил: «На меня не ссылайтесь».
Он повторял это часто и в других ситуациях, и я всегда трактовал это как попытку отучить сотрудников ссылаться на авторитеты, а думать самим. Это резко констрастировало со стилем научного руководства других завов лабораториями и отделами. Не могу удержаться и приведу забавный пример. Мой коллега-аспирант рассказывал о своём научном руководителе, большом учёном, члене-корреспонденте АМН, следующую историю. Когда бы он ни приходил к своему шефу с каким-либо предожением, тот неизменно отвечал: «Нас это не интересует». Тогда аспирант применил другой творческий подход. Он говорил: «А помните, И. И., вы говорили, что нужно сделать то-то и то-то?» И получал неизменный ответ: «Почему же ты не сделал?"
Как уже было сказано, ничего подобного Арону не было свойственно. Более того, я извлек из фразы «на меня не ссылайтесь», по-видимому, правильные уроки, стал обдумывать свои идеи сам, принимал решение делать или не делать сам, и если делал и получалось, приходил к Арону с готовыми результатами. По-видимому в связи с этим, Арон принял судьбоносное для меня решение и сказал: «Жора, вы больше не нуждаетесь в руководстве, делайте что хотите, у меня только одна просьба – время от времени рассказывайте мне о своей работе».
Однако ещё до этого он сказал мне, чтобы я публиковал статьи только под своим именем, даже тогда, когда работа была выполнена вместе с ним. Впоследствии он дал мне возможность, числясь у него в штате и получая зарплату, работать в другой лаборатории по теме, не имеющей никакого отношения к основным темам Арона. Я думаю, что это редчайший случай.
Не могу не вспомнить бесценные советы в отношении докладов своих данных на конференциях и симпозиумах. Перед моим самым первым публичным выступлением он настойчиво советовал мне подготовить сообщение «для идиотов». Все мои возражения о том, что я собираюсь выступить перед специалистами, он с негодованием отвергал и справедливо отмечал, что никто не хочет напрягаться.
Ещё один бесценный совет состоял в следующем. Он говорил, что в каждой работе есть слабые места и, докладывая свою работу, не следует ни в коем случае скрывать это, а, напротив, самому указать на слабости. Этим, говорил он, вы обезоружите потенциальных критиков. С тех пор я неизменно следую его совету и никогда об этом не пожалел.
Хочу добавить, что эти высказывания были не просто полезными советами, извлечёнными из житейского опыта, а результатом глубокого понимания человеческой природы. Арон не просто усвоил банальную истину о том, что человеку свойственно ошибаться. Я убеждён, что он открыл её для себя сам. Он многократно и в самой разнообразной форме указывал, что исследователь должен принимать во внимание то, что каждый полученный им результат может оказаться ошибочным и действовать соответственно. Сам он следовал этому своему правилу неукоснительно и, высказывая своё мнение по какому-либо вопросу, говаривал: «Возможно, я ошибаюсь, я в своей жизни часто ошибался».
Арон был сильным, мужественным и независимым человеком. Советскую власть он ненавидел, но, понимая, что ничего изменить нельзя, пытался, насколько это было возможно, держаться от власть предержащих подальше. Он был заведующим лабораторией в академическом институте, а одна из важнейших функций зава в советской науке состояла в «выбивании» ставок, дополнительного помещения, импортного оборудования и т.п. Он, по возможности и в ущерб себе, избегал этого.
В принципе, его экзистенциальная позиция состояла в «стоическом неучастии». Когда начальство однажды предложило ему заняться разработкой биологического оружия (редкая возможность увеличить штат, получить валюту и т.п., воможность, в которую другие завы вцеплялись, «как кобель в падлу»), он твёрдо отказался, заявив, что на войну работать не будет. Столкнувшись с такой твёрдой позицией, начальство, привыкшее к всеобщей покорности, даже несколько растерялось и отступилось. Во всяком случае, немедленных оргвыводов не последовало.
Вообще, он был человеком твёрдых приципов, которые, по возможности, не нарушал. К людям, независимо ни от чего, он относился очень уважительно и доброжелательно. Он считал, что критиковать и судить людей нельзя (редчайшее качество для советского человека), он даже советскую власть критиковал косвенно, в духе своего своеобразного чувства юмора.
В тот день, когда у него родилась внучка, советские газеты сообщили, что у президента Картера родилась внучка. Через несколько дней Арон пришёл в лабораторию во второй половине дня и объяснил своё отсутствие тем, что он и президент Картер занимались в этот день одним и тем же, а именно: в то утро «давали» детские коляски, и они несколько часов простояли в очереди.
Арон, как правило, не критиковал ни стиль советских научных боссов, ни процесс массового производства малограмотных кандидатов наук, ни общий низкий уровень советской биологии. Он только иронизировал иногда. Так однажды он упрекнул меня в том, что я плохо работаю и, в результате, публикую в год всего одну статью. «А вот академик Н. публикует новую статью каждые две недели». А в другой раз, вернувшись с сессии АМН, посвященной развитию иммунологии в нашей стране, он спросил меня, сколько, по моему мнению, в Союзе иммунологов. Я посчитал на пальцах и сказал – восемь. Арон ехидно улыбнулся и сказал: «Тысяча».
Арон был знаком чуть ли не со всеми биологами Москвы, и мы, его сотрудники, часто спрашивали его мнение о том или другом из них. У него было два стандартных ответа, один положительный – «знающий», и другой – отрицательный – «энергичный». Никаких подробностей или деталей из него вырвать было невозможно.
Я тогда совершенно не задумывался над тем, почему Арон выбрал именно эти слова, «знающий» и «энергичный». Много позже, уже в Израиле, я где-то прочёл, что великий человек это тот, кто видит дальше всех и хочет сильнее всех. После знакомства с этим определением я довольно быстро сообразил, что чаще встречаются другие комбинации. Есть люди, которые видят достаточно далеко, но с низким уровнем мотивации, амбициозности, честолюбия. Они, как правило, никуда сильно не рвутся и никому дорогу не перебегают. И есть такие, которые видят чуть дальше собственного носа, но их амбициозность достигает уровня наркозависимости. Они готовы родную мать продать ради минимального продвижения по карьерной лестнице. И тогда я подумал, что именно таких деятелей Арон определял словом «энергичные».......
... хотя он [Арон] не знал еврейского языка и был крайне далёк от еврейских традиций. В результате многолетнего тесного общения с этим человеком у меня сложилось следующее мнение о нём. Он был гордый, цельный, совершенно неущербный человек, с глубоким чувством человеческого достоинства. Он чувствовал себя в среде русского народа как равный среди равных. Он был самим собой всегда и везде. А быть самим собой для него значило также быть евреем. И он был, как говорят в Израиле, гордым евреем. Он бы мог, перефразируя известное англосаксонское выражение, сказать – это мой народ, когда он прав и когда он не прав. Он любил говорить о себе: «Я – сын Авраама». Ну, и абсолютно в своём неповторимом стиле любил заявлять: «Я старый, больной, беспартийный еврей». ...
Таким был незабвенной памяти российский гражданин, еврей, большой учёный и дорогой человек – Арон Евсеевич Гурвич. [1]
АРОН ЕВСЕЕВИЧ ГУРВИЧ (к 90-летию со дня рождения)[править]
23 июня 2008 г. в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН на научном семинаре по иммунологии был торжественно отмечен 90-летний юбилей Арона Евсеевича Гурвича.
Профессор А.Е.Гурвич (1918—1988) — один из основателей отечественной иммунохимии, с 1961 по 1986г. — руководитель лаборатории химии и биосинтеза антител НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.
А.Е.Гурвич впервые разработал высокоемкие иммуносорбенты, был одним из создателей иммуноаффинной хроматографии, впервые количественно оценил динамику биосинтеза антител.
Профессор А.Е.Гурвич воплощал в себе благородство и человеческое достоинство. Он создавал вокруг себя особую нравственную атмосферу порядочности, взаимного уважения и гражданственности. Арон Евсеевич всей своей жизнью доказывал, что высокие нравственные начала, заложенные в глубинных основах науки, могут реализоваться только в поступках. Суслов А.П.
Илья АБРАМОВИЧ. Судьба одной рукописи[править]
"Дорогой Илья Абрамович! Я решил написать Вам, потому что прочел Ваши воспоминания.
Прежде всего - несколько слов о себе.
Я Гурвич Арон Евсеевич, немного старше Вас. Родился в 1918 году. Перед войной окончил Московский университет. В начале войны был солдатом в пехоте, затем воевал в медицинских войсках. В конце 1945 года демобилизовался, пошёл работать в научный институт, стал профессором, руковожу лабораторией.
Я прочитал Ваши воспоминания, и глубокая печаль овладела мной. Еврейское местечко Зиньков, 5000 жителей, 700 лет истории, вокруг другие местечки. Сколько за семь столетий пережито горя и страданий, сколько раз нависала над его жителями угроза гибели: голод, эпидемии, погромы. Много раз положение было ужасным. Но никогда оно не было безвыходным. Тем или иным способом - в одних случаях благодаря сплоченности, уму, энергии, а в других - благодаря унижению и подобострастности - хотя бы часть зиньковчан уцелела. Они снова спорили и молились, снова восстанавливали свой мир.
Так было в течение многих веков, но на сей раз выхода не было. Почти за год Зиньков "освободили от евреев". Их уничтожили. Была уничтожена преемственность, уничтожили образ жизни, которую они сохраняли столетиями. Кучка случайно уцелевших евреев не могла остановить это и должна была неизбежно разбрестись по стране.
Читал ваши воспоминания неотрывно. Многое было для меня совсем новым. В частности, я ничего не знал о Транснистрии, о Жмеринке. Читая, ужасался тому, как мало я знаю об этой трагедии. Ведь я - еврей, и принадлежу к тому поколению, которое жило в это время. Я был в составе войск, освобождавших Украину, Польшу и Чехословакию. Наша армия освобождала Освенцим, и я там был через пару дней после освобождения.
Конечно, я слышал об уничтожении евреев, знал цифры, видел фотографии трупов. Но ведь кроме этого существует внутренняя жизнь, жизнь людей, которые уничтожали евреев. И внутренняя жизнь евреев, переживших этот кошмар. Эту духовную жизнь можно отразить лишь в воспоминаниях, которые неповторимы и поэтому бесценны.
Людей нашего поколения становится все меньше. Умер мой любимый брат, умер мой лучший друг, другие друзья стареют, теряют память и ясность ума. С каждым днем становится все меньше людей, которые помнят войну. И уж совсем мало осталось евреев, которые, сами, как Вы, пережили оккупацию и охоту на себя. А те, которые охотились, сумели уничтожить почти всех. Поэтому ваши воспоминания представляют огромную ценность, и я Вам очень благодарен за них".
(Письмо приводится полностью, без исправлений).
Это письмо от совершенно незнакомого человека жена принесла мне в больницу в апреле 1986 года. Я ответил вежливым письмом, в котором поблагодарил профессора за лестный отзыв о моей повести, и вскоре забыл об этом - не до того было…
Как же я был удивлен, когда недели через две мне принесли в больницу второе письмо от Арона Евсеевича. Свыше двух лет длилась переписка между нами, мы надеялись на встречу. Она так и не состоялась. Он умер 18 августа 1988 года. Мое последнее письмо вернулось из Москвы нераспечатанным.
Однако то, что сделал для меня этот Человек, я не забуду до последнего вздоха. Он добился встречи с известным писателем Григорием Яковлевичем Баклановым. Когда Гурвич положил на стол Бакланову злополучную рукопись, тот выказал точно такую же "радость", как и Бейдер, и тоже показал рукой на переполненный шкаф:
- Я писатель, Арон Евсеевич, но не редактор и не критик. После смерти Симонова все фронтовики шлют свои мемуары почему-то мне. Мне, признаться, некогда их читать.
Рукопись Бакланов всё же оставил, пообещав через полгода-год заглянуть в неё. А через три дня позвонил Гурвичу ночью:
- Прочитал рукопись вашего протеже - вы оставили её на столе, и я по привычке заглянул. Это потрясающая вещь! Если не возражаете, пусть она останется у меня, ещё кому-нибудь покажу. Думаю, пришло время пробить стену, воздвигнутую ещё Сталиным. Давно пора это сделать...
Летом 1986 года состоялся 8-й съезд писателей СССР. Бакланов стал одним из секретарей писательского союза. 6 сентября того же года рукопись была передана в журнал "Знамя", который возглавил Бакланов.
13 декабря 1987 года он пригласил в редакцию Раю[1] и сообщил ей:
- Повесть вашего брата будет опубликована в первом квартале 1989 года.
В тот же день в моей квартире раздался требовательный телефонный звонок.
- Победа, Илюшенька! Победа! - кричала сестра в трубку.
Ошеломленный, я присел на обувной шкафчик и только прерывисто сопел. А там, на другом конце полуторатысячекилометрового провода, сестра успела успокоиться и внятно сообщила подробности встречи в редакции.
- Меня тепло поздравили Бакланов, Лакшин и Оскоцкий. Я только спросила: "Можно мне об этом сообщить брату?" - Бакланов улыбнулся: "Конечно, конечно".
Итак, свершилось.
- ↑ Сестру автора