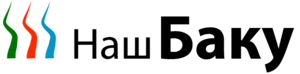Лейтман Саул Михайлович - инженер-строитель, репрессирован - Баку в его книге "Жернова" (отрывки)
Лейтман Саул Михайлович - инженер-строитель, репрессирован - о Баку в его книге "Жернова" [править]
1910-1990
1910. — Родился в Баку в семье рабочего-нефтяника. Отец – Михаил Лейтман, мать – Мария Лейтман, братья – Исаак (старший), Борис[1] (младший).
1916. — Поступление в еврейскую гимназию.
1926, ранняя весна. — Арест старшего брата Исаака по обвинению в руководстве ЦСЮФ (Сионистский социалистический союз молодежи). Высылка брата в Хорезмскую область.
1927, 9 марта. — Арест[2] С.М. Лейтмана по обвинению в принадлежности к ЦСЮФ.
1927, март–сентябрь. — Пребывание в тюрьме ГПУ в Баку. Допросы. Следователь Аринин. Издевательства, пытки голодом и лишением сна, нервное и физическое истощение.
1927, сентябрь-октябрь. — Пребывание в домзаке на Кубинке. Суд, приговор: 3 года административной ссылки с отбыванием в Казахстане.
1927, начало октября – начало ноября. — Этап в Красноводск на пароходе, затем поездом в Кзыл-Орду; жара в вагонах, отсутствие воды.
1928, январь (?). — Прибытие в Турткуль (Хорезмская область). Направление в Кунград. Во время переезда полостная операция в больнице г. Ходжейли.
1928, февраль. — Прибытие в Кунград к месту отбывания ссылки. Прием на работу (обустройство ирригационных сооружений).
1929, 12 марта. — Освобождение из ссылки. (Обнаружилось, что в момент вынесения приговоры Лейтман был несовершеннолетним; срок ссылки был сокращен до двух лет). Разрешение проживать везде, кроме девяти самых крупных городов («минус девять»).
1929, март. — Отъезд из Кунграда в Ташкент; посещение в Турткуле ссыльного брата Исаака. Устройство чертежником в архитектурную мастерскую («Ташпроектбюро»).
1931, конец. — Поступление на работу в Кадырьястрой на строительство электростанции.
1932, начало. — Вторичный арест; этап в городскую тюрьму Ташкента. Обвинение в занятиях нелегальной политической деятельностью. Приговор суда: три года ссылки в Казахстан. Протестная голодовка в камере с требованием скорейшей отправки к месту ссылки.
1932, весна. — Прибытие под конвоем в Алма-Ату, оттуда, по восстановлении здоровья после голодовки, отправка к месту отбывания ссылки (Чимкент).
1932, лето. — Оформление на работу в должности областного инженера «Тракторцентра» (строительство машинотракторной станции – МТС). Перевод в Мерке для дальнейшего отбывания ссылки. После нескольких месяцев безуспешных поисков работы оформление на строительство сахарного завода.
1935, январь. — Командировка в Москву.
1935, начало. — Освобождение из ссылки.
1935, весна. — Прибытие в Баку. Отказ в прописке. Поиски работы.
1935, лето. — Приглашение в Алма-Ату на строительство сахарных заводов и свеклосовхозов в Казахстане и Киргизии.
1935–1938. — Работа на строительстве сахарных заводов.
1938, конец февраля. — Срочный отъезд в Москву в связи с ожидавшимся арестом. Направление в Воронежскую область на работу в должности прораба на строительстве ТЭЦ и сахарного завода.
1938, ноябрь. — Несостоявшаяся попытка нового ареста. В дальнейшем – многолетняя работа на строительных объектах в различных регионах страны.
1990. — Скончался Саул Михайлович Лейтман.
- ↑ см. также о сыне Бориса - Лейтмане М.Б.|
- ↑ Саул Михайлович Лейтман был арестован 9 марта, 1927 г. по обвинению в принадлежности к ЦСЮФ. Приговорен к 3 годам ссылки. Срок был сокращен до 2-х лет, т.к. в момент вынесения приговора С. Лейтман был несовершеннолетним. Ссылку отбывал в Хорезмской области, г. Кунград. Освобожден 12 марта 1929 г. После ссылки - "минус 9" с проживанием в Уз.ССР, г. Ташкент. Повторно арестован в 1932 г. по обвинению в КРД. Приговорен к 3 годам ссылки в Чимкенте. Освобожден в 1935 г. [БД "Жертвы политического террора в СССР" Материалы к биографическому словарю социалистов и анархистов, НИПЦ "Мемориал" (Москва)]]
Исаак Михайлович Лейтман[править]
– руководитель молодежного отдела сионистов-социалистов (ЦСЮФ). Был приговорен к 3-м годам административной ссылки. Повторно арестован в феврале 1932г. Приговор: 3 года ссылки в Минусинске. Опять арестован в марте 1937г. по обвинению в КРД. Расстрелян в апреле 1938г.
Злобинская Ревекка Абрамовна[править]
– сионистка-социалистка (член ЦСЮФ). Жена Исаака Михайловича. Неизвестно, была ли арестована вместе с мужем в 1926г. или же позже, в 1932г. с ним же. Как и ее муж, в 1932г. была сослана в Минусинск. Повторно арестована и расстреляна в 1938г.
Лейтман С.М. "Жернова" (отрывки из различных глав)[править]
...Целую вечность назад — шести лет, то есть в 1916 году,— я был определен в частную еврейскую гимназию, приравнивавшуюся к классической русской гимназии. Размещалась она в первом этаже двухэтажного дома на углу Гимназической и Мариинской улиц. С неровно бьющимся сердцем переступил я порог подготовительного класса, в котором азы древнееврейского языка и русской грамоты преподавали владелец этого учебного заведения Израиль Львович Векслер и его сестра Софья Львовна.
Неверно держит перо маленькая рука, срывается голос провинившегося ученика, но никогда не заметит малыш презрительной усмешки, не почувствует холодного равнодушия. В сырой полутьме камеры я ощущаю горячую волну благодарности к своим первым учителям, ежедневно выказывавшим уважение к нашим маленьким личностям. Они понимали пружины наших поступков. И проступков тоже...
Революция прикрыла еврейскую гимназию, где я успел проучиться два года; Векслеры эмигрировали в Палестину. Кодла уличных мальчишек, ряды которой пополнили я и мои братья, бегала за колоннами демонстрантов, во все горло распевала «яблочко, куды котишься...», была непременным участником митингов и собраний. Стены домов, заборы и тумбы были обклеены плакатами и лозунгами, призывавшими голосовать за большевиков, меньшевиков, эсеров левых и эсеров правых, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов,— разумеется, мы абсолютно не понимали, какая между всеми ними разница.
Сильнее политических демонстраций отложились в памяти жуткие шествия мусульман-шиитов в рубахах из мешковины или холста. С закрытыми глазами я вижу, как идут они по улицам и ритмично выкрикивают:
— Шахсей-вахсей! Шахсей-вахсей!
И в такт словам хлещут себя металлическими цепями на деревянных рукоятках. Цепи бьют по оголенным лопаткам — для этого в рубахах специально сделаны вырезы — и рассеченная кожа сочится кровью. Наиболее фанатичные надрезают себе легкими отточенными кинжалами лбы возле обритого темени, кровь заливает их лица.
— Шахсей-вахсей! — вопят окровавленные рты. Именно так на слух воспринимается причитание «шах Хусейн, вах, Хусейн!» — «владыка Хусейн, о, Хусейн!».
Ежегодные десятидневные церемонии «шахсей-вахсей» представляют собой поминовение третьего шиитского имама Хусейна. Окровавленные, вопящие процессии притягивали нас, мальчишек, как магнит, хотя родители запрещали даже приближаться к фанатикам. Говорили, что после посещения мечети они смывали свою «священную» кровь в особых банях.
Носили мы штаны и рубашки, пошитые из мешковины. Обзывали «буржуями» тех, у кого на одежду пошли мешки от крупчатки или ханского риса, который привозили из Персии.
Пшенную кашу, заправленную луком, который поначалу жарили на кунжутовом масле, мы считали деликатесом. Когда этого масла не стало, мама жарила лук на рыбьем жире, а когда не стало в аптеках и рыбьего жира, в ход пошла обычная касторка.
На ногах у нас, как, впрочем, и у большинства взрослых, отлично сидела самодельная деревянная обувь. Две платформы соединялись на сгибе кожаными или матерчатыми накладками. Правда, из дерева постоянно вылезали гвозди, и ступни у всех кровоточили. То и дело мы останавливались, подбирали камень и вколачивали гвоздь назад.
Мы тучей носились по мощеным булыжником улицам, толпились перед гостиницей, на балконах которой торчали худые, докрасна загорелые, спортивного вида англичане, в чьей власти на время оказался город. Изредка в толпу голодных мальчишек, бурлившую на Ольгинской улице, они бросали диковинные заморские фрукты, похожие на бананы или длинный стручковый перец. Англичан забавляли жестокие драки, разгоравшиеся из-за этих подачек. Скоро мы узнали, что довольно вкусные фрукты служат кормом обозным мулам.
Англичане не только стояли на балконах. По бакинским улицам с хозяйским видом разгуливали потешные шотландские стрелки в клетчатых юбчонках, да огромные синекожие сипаи-индийцы с белыми тюрбанами на голове. Однако более всего меня потрясло другое. Краем уха я слышал дома, что Фрида Клионская, дочь владельца промысла, где работал отец, вышла замуж за англичанина, по национальности еврея, и вместе с ним уезжает из Баку.
Отца мобилизовали на защиту города от наступавших турок. Однажды днем он появился в солдатской, цвета хаки, одежде, в тяжелых и скрипучих ботинках, обмотках до колен, с винтовкой, небрежно закинутой за плечо. Поцеловал нас, успокоил рыдавшую у него на груди маму и ушел, пообещав вскоре дать о себе знать.
Но проходили дни, а известий все не было.
Рокот канонады делался все ближе, все тревожнее. Наконец турки принялись бить из пушек по нефтепромыслам, полукольцом охватившим город. Мы, стайка девятилетних мальчишек, сидя на крыше соседнего дома, слушали разрывы и гадали, куда угодит следующий снаряд. Дым пожаров застилал небо, а всполохи багрового пламени казались нам прекрасными.
Прихватывал и голод, порой в день обходились куском хлеба, испеченного из отрубей, да тарелкой горячего варева. В конце концов в доме из еды осталась лишь картофельная шелуха. Бычки, которых мы вместе с моим приятелем Колей Самфировым ловили прямо в Бакинской бухте, как назло отказались клевать на наши удочки. Вот тогда нам с Колей и пришла в головы мысль сбегать на фронт, к родителям. Линия его проходила у Волчьих ворот, на холмах, окружавших город.
Задумано — сделано. Несмотря на порывистый норд — северный ветер — нагнавший низкие тяжелые тучи, моросивший холодный дождь, мы с Колей около полудня пустились в неблизкий путь, километров за двадцать. Сначала карабкались вверх по узким раскисшим улочкам, потом месили грязь на пустынном Нагорном плато. Изредка нас обгоняли направлявшиеся к фронту подводы с припасами. Когда мы наконец услышали треск выстрелов, прибавили шагу.
У первого же окопа нас остановили. Спросили, куда идем, кого ищем. А выслушав, велели спуститься в окоп и ждать. Скоро подошли наши отцы, ругая и обнимая нас одновременно.
Укрыв меня полой шинели, отец подробно расспрашивал о нашем житье-бытье. У меня хватило ума промолчать о невзгодах, зато расписать скромные семейные успехи.
Свидание было коротким. Минут через пятнадцать нас уже отправляли восвояси, вручив каждому по караваю теплого солдатского хлеба. Сунув его поглубже за пазуху, мы припустили домой. Под гору летели, словно на крыльях.
И все же, когда, простившись с Колей, я добрался до дому, уже стемнело. Вырвав из-за пазухи тяжелую буханку, протянул маме:
— Это папа прислал. С фронта!
Мама порывисто прижала меня к себе, закричала:
— Я еще накажу тебя!
И плача, принялась расспрашивать о папе, его виде, здоровье.
Потом нарезала хлеб, дала мне и братьям по толстому пахучему ломтю...
Перед вступлением в город турецких войск азербайджанские тюрки, как тогда называли азербайджанцев, устроили страшный армянский погром... А вечером отец пришел с работы не один: его товарищ-армянин поселился в нашем платяном шкафу.
Армянин прятался там до тех пор, пока турки не захватили Баку.
Армия принялась наводить порядок по-своему. В людных местах сразу появились виселицы, тела с которых запрещалось снимать в течение нескольких дней. На шеях казненных болтались таблички с указанием их вины. Резня и грабежи прекратились.
А спустя год армяне взяли реванш. Я видел, как проворно взобрался на крышу своего дома сосед-азербайджанец. Забежав за дымовую трубу, он выхватил из-за спины винтовку и решил дорого отдать свою жизнь. Однако погромщики подобрались к нему по соседним крышам и сбросили несчастного на мостовую. Там его и прикончили, предварительно надругавшись. Отец же вернулся домой со своим знакомым азербайджанцем, и тот до глубокой ночи пережидал у нас погром.
Корни этой взаимной ненависти уходили в прошлое; еще в 1905-м в Баку произошла армяно-азербайджанская резня, в ходе которой были подожжены и сгорели почти все нефтепромыслы.
...Отец всегда вставал рано, еще затемно, а возвращался поздно, уже к вечеру, перепачканный копотью и мазутом. Фыркая и ворча, долго отмывался у рукомойника.
Семья собиралась за большим столом под керосиновой лампой-молнией. Она опускалась и поднималась при помощи цепочки и грузила, заполненного свинцовой дробью.
Часто повторялось имя хозяина — Клионского, который сам, в свою очередь, обслуживал нефтепромышленника Мусу Нагиева. Мама сокрушалась, что бросила работу белошвейки в мастерской, но все-таки гордилась своим положением хозяйки большой семьи. Особенно весело и шумно становилось за столом, когда приходили грозный на вид дедушка Вениамин с маминой сестрой Рахилью, младший брат отца, записной шутник дядя Хаим, бабушка Эся, державшая собственную кухмистерскую и непременно приносившая нам, своим старшим внукам, что-нибудь вкусненькое. В такие вечера отступали заботы, а счастье и благополучие, казалось, обещали прийти с завтрашним рассветом...
В воскресные дни, случалось, всей семьей отправлялись на Парапет, чахлый садик в самом центре города. Пили шипучую, бьющую в нос сельтерскую воду, с любопытством рассматривали фланирующую нарядную публику. Иногда отец нанимал фаэтон и, кое-как разместившись в открытой коляске с поднятым сзади кожаным верхом, мы возвращались в ней домой. Строго по очереди каждый из нас, трех братьев, занимал место на облучке рядом с кучером и важно чмокал губами, поддергивал вожжи, прикрикивал на лошадей...
Все религиозные обряды отец чтил и исполнял свято, хотя в синагогу ходил только по праздникам. Вместе с ним с самых малых лет ходили туда и мы. Сначала в Большую синагогу, где отец имел место, а потом в Хасидскую. Молился он всегда горячо и искренне.
...Мне должно было стукнуть тринадцать, и отец начал ежедневно заниматься со мной, готовя к обряду бар-мицво, что означает «сын закона». Отец к тому времени уже тяжко болел и оставил непосильную для него работу на нефтепромыслах. Он переживал, что, заведуя небольшим армейским складом, получает маленькое жалование. И хотя Изя работал тоже, денег все равно не хватало. Мама втайне от отца пекла пирожки, которые я до начала занятий в школе продавал на базаре. Выкрикивая сдавленным голосом цену, я закрывал лицо рукавом, чтобы, не дай бог, кто из знакомых не увидел меня за этим занятием. А чуть кто появлялся вдали, я с тяжелым коробом на плече моментально ввинчивался в гудящую плотную толпу.
После занятий в школе отец долгими вечерами готовил меня к обряду. Я выучил наизусть а дроше — свое вступительное слово — и отрывки из Торы, которые должен был прочесть на бар-мицва. Закончив скромный ужин, отец поднимал меня из-за стола, освещенного уже не керосиновой молнией, а удлиненной, похожей на запаянный бокал без ножки, электрической лампой.
В день бар-мицвы, за которым навсегда оставались в прошлом мальчишеские проказы, отец сам отвел меня в синагогу. В гулком пустом зале он помог мне одеть тфилин — выписки на пергаменте из Моисеева пятикнижия, упакованные в специальные кожаные кубики-коробочки. Отец укрепил их ремешками на моем лбу и правом плече. Я накинул на себя талес. И тут же с возвышения, где в нарядных чехлах хранились свитки Торы, раздался голос раввина. Он прочел молитву и подозвал меня к себе. Громко и певуче произнес я а дроше, а затем, развернув свиток, прочитал отрывок из Торы.
«Теперь,— подумал я,— брат и его товарищи будут больше доверять мне, взрослому мужчине».
И верно, Изя, мечтавший жить и трудиться в Палестине, с головой окунул меня в деятельность детской еврейской организации «Кадима», которую ласково называли «маленькими шомрим», то есть «маленькими стражами». Участники «Кадимы» серьезно занимались спортом, особенно морским — учились вязать узлы, ставить парус, управлять шлюпкой. Много читали и много спорили о прочитанном. Соревновались в подтягивании на турнике. И главное — старались овладеть какой-нибудь профессией, которая могла быть полезной в нищей Палестине. В особенности многих из нас манила романтика жизни в сельскохозяйственных коммунах-киббуцах, где не находилось места частной собственности.
Ко мне в нашей дружной компании — язык не поворачивается назвать ее «организацией» — отношение было особое. В нашем доме был своего рода сборный пункт друзей брата. Прислушиваясь к их беседам, я постепенно стал разбираться в отличиях между сионистской социалистической партией ЦСП и сионистской трудовой партией «Гехолуц», между молодежной сионистской организацией ЦСЮФ и более консервативными «молодыми стражами» из «Ха-шомер ха-цоир».
На моих глазах между строк открытого текста наносили лимонной кислотой тайные послания. Для прочтения бумагу нагревали, и четко проступала коричневая вязь тайнописи. Я наблюдал, как печатали на гектографе нелегальную литературу — листовки, воззвания, газету. Иной раз мне самому разрешали постоять за гектографом, хотя куда чаще мне выпадала роль дозорного — я должен был предупредить участников сходки о приближении милиции. Естественно, приобретенные знания я доносил до своих товарищей из «Кадимы».
Меньше года прошло, как Изя пригласил меня на взрослую сходку. Мы собрались на зеленом склоне холма на Зыхе — далеко за заводами Белого города и корпусами ткацкой фабрики Тагиева. Море внизу ласково лизало ослепительно желтый песок пустынного пляжа. Пришло меньше десятка человек — все, кто оставался еще на свободе после повальных зимних арестов.
...
Перед «пейсах» — мама до блеска убирала квартиру. В Большой синагоге закупались маца, напитки, обязательно снабженные этикеткой «кошер л'пейсах», живая птица. В самый канун пасхи гусиным пером шумно выметали комнату, извлекая из углов мусор и крошки хлеба — «хомец». Синагогальный резник — «шойхет» — особым, веками освященным способом резал птицу. Мама исчезала на кухне, и квартиру вскоре наполняли запахи праздничных блюд.
К пяти часам вечера с наступлением сейдера стол накрывали свежей хрустящей скатертью, из высокого, отполированного до красноты буфета с резными дверцами и витыми колонками осторожно доставали нарядную пасхальную посуду, к которой не притрагивались целый год. Место во главе стола в одиночестве занимал отец. Он садился на специально положенную на стул подушку — «афикоймен». Отломив несколько кусочков мацы, он прятал их под нее. Только затем за праздничным столом устраивались все мы.
В наступившей тишине отец разламывал надвое кусок мацы, и глуховатым голосом читал отрывок из Агады:
— Это хлеб изгнания, который отцы наши ели во время исхода. Голодный да придет и ест с нами, жаждущий да придет и пирует с нами. В этом году здесь, в будущем — в Иерусалиме. В этом году — рабы, в будущем — свободные люди...
Дрожа от нетерпения, Боря задает на старом иврите свои четыре вопроса из той же Агады, и первым делом вот этет: «Ма ништано ха-лайло ха-зе мин коль ха-лейлос?» — «Чем отличается эта ночь от всех прочих ночей?». Отец обстоятельно, неторопливо отвечает ему, и кажется, спустя тысячелетия мы сами исходим из Египта. С последними словами отца спадала пелена торжественности, и стол заливался на разные голоса, шумел, взрывался смехом. Мы, дети, жарко торгуясь, выкупали у отца кусочки мацы, спрятанные под афикоймен.
— Вынеси на балкон,— отец вручал одному из нас бокал из толстого стекла с пасхальным вином и кусок специально испеченного мамой к празднику пряника «ле-кех» на фарфоровом блюдце с золотыми и розовыми цветами.
С замиранием сердца мы провожали счастливца на балкон, куда время от времени потом заглядывали: а вдруг именно к нам спустится с небес Илия-пророк — Эйлиеху ха-нови — и отведает именно нашего вина и пряника...
К концу трапезы за столом дружно пели хором веселую песенку «Козочка» — хад гад'е — а, разгорячившись, пускались в пляс. Поднятая к потолку лампа-молния покачивалась в такт зажигательным и чуть грустным еврейским танцам...
Глава 9. Есть в Баку район — Кубинка[править]
9 марта 1927 года С.М.Лейтман был арестован. После полугода следствия Лейтман был перевезен из тюрьмы ГПУ в городскую тюрьму на Кубинке.
Через несколько минут машина покатила, подпрыгивая на булыжной мостовой. Сквозь зарешеченное окошко я с тоской смотрел на знакомые улицы, ведущие к Домзаку — Дому заключения на Кубинке. Наконец воронок остановился у серого пятиэтажного здания с массивными прутьями на окнах. Открылись одни ворота, другие, и машина, словно через шлюз, въехала в крошечный внутренний дворик.
Нас вывели из воронка, пересчитали и проводили в канцелярию. Меньше всего она была похожа на тюремное помещение. На подоконниках — горшки с геранью, у стены, на высоком табурете, попыхивает, сверкая медными боками, самовар. На столе рядом с открытыми нардами дымятся эмалированные кружки с чаем.
В отличие от тюрьмы ГПУ, в которой ни охранники, ни заключенные, казалось, никуда не торопились, здесь все формальности выполнялись стремительно... Сначала на третий этаж забрали уголовников. Нас, четверых политических, повели на четвертый.
-За что попал?
— Тихо! — прогремел в коридоре голос высокого, худого мужчины с чахоточными пятнами на ввалившихся смуглых щеках.— Поздно уже, разговоры отложим наутро.
Подойдя к нам, он пожал каждому руку, представляясь:
— Гусейн Багирли, староста. Возле меня он задержался.
— Лейтман,— Багирли наморщил лоб, погладил густую черную шапку волос.— Исаак Лейтман вам кто?
— Брат,— ответил я.— Родной, старший.
— Сидел здесь год назад. Помню его, хорошо помню,— и дружески подтолкнул меня вглубь коридора.— Идите в пятую камеру.
В пятой камере — просторной квадратной комнате с высоким потолком — было чисто и опрятно. Заключенные устраивались на ночь.
— Ипатов Сергей Александрович, староста камеры,— подал мне маленькую точеную ладонь мужчина лет сорока с сохранившейся военной выправкой; его прямые светлые волосы были тщательно зачесаны назад.— Есть хотите? Нет? Тогда устраивайтесь на боковую. Вот сюда.
Из восьми мест на деревянных нарах в один ярус два были свободны.
Утром, после завтрака, я рассказал о себе. Щека дергалась, порой, заикаясь, я не мог выговорить слово. Сергей Александрович, встревоженный взгляд которого я не раз ловил на себе, ненадолго исчез. Вернулся он с пожилым мужчиной в потертом коричневом костюме.
— Познакомьтесь,— сказал он мне.— Это Рустам Ганизаде, мусаватист, как и наш староста этажа, но в то же время и практикующий врач.
Ганизаде заставил меня раздеться и внимательно осмотрел.
— Ничего страшного,— успокоил он меня и стоявшего рядом Ипатова.— Нервное и физическое истощение, упадок сил.
— А как организовать лечение? — спросил Сергей Александрович.
— Зарегистрируем его в больничном околотке, чтоб выписали усиленное питание, а остальное здесь, под моим наблюдением.
— Что остальное? — вырвалось у меня. Ганизаде — позднее выяснилось, что он из Иранского Азербайджана — поднял печальные черные глаза. Серебряные вьющиеся пряди сохранились лишь по краям обширной блестящей лысины. Щеки отвисли, образуя у рта глубокие, падающие к подбородку складки.
— Остальное,— задумчиво повторил он.— Остальное — это строжайший режим дня, определенный мною и беспрекословно выполняемый вами. Это гимнастика, обтирания холодной водой и, конечно, главное — ваша молодость и ваше желание поправиться.
Я испытывал глубокую благодарность к своим товарищам по заключению, окружившим меня заботой и лаской, хотя их самих не баловала горькая арестантская доля. Уже не краем уха, а внимательно слушал я жаркие споры офицера царской армии Сергея Александровича Ипатова с желчным террористом-эсером Абрамом Гинзбургом, мусаватистов Багирли и Ганизаде с кривоногим, низеньким, но словно вырубленным из куска темно-красного гранита, дашнаком Мушегом Мхитарянцем, меньшевика Реваза Твадзе в черной кавказской рубашке, перетянутой в талии узким, с серебряными насечками поясом, с попавшим к тому времени на наш этаж Нахманом, убежденном в светлом будущем еврейского социализма в Палестине.
Вот только мамы мне отчаянно не хватало — впервые в жизни я был лишен возможности ежедневно видеть ее, слышать ее голос, ощущать прикосновения теплых, добрых рук. В тюремной больнице был приходящий зубной врач, и зарешеченное окно его кабинета выходило на соседний переулок. Под большим секретом мне поведали, что если прийти на прием к врачу в определенный день и час, то я увижу свою маму: она будет прогуливаться перед окном.
Вскоре тюремный телеграф принес весть: «Готовится этап на Красноводск»...
На нарах кто-то затянул на мотив популярных «Кирпичиков»:
На Кубинке дом, с виду мрачный он,
из решеток сплетенный почти.
В них мелькает, как вор, любопытный взор,
и блестят на стенах кирпичи.
Раз в вечерний час вдруг раздался глас,
топот быстро бегущих людей.
С узелками все, бородатые все —
то ГеПеУ вновь прислало гостей.
Лица бледные, изможденные,
и какой-то растерянный взгляд,
безразличный, пустой, как кирпичики,
что на стенах Кубинки блестят.
Не горюйте, друзья, очень скоро вам
по этапу придется идти.
А кирпичики — пускай светятся
на далеком, нелегком пути...
...Однажды, спустя много-много лет я приехал в Баку, и ноги сами понесли меня на Кубинку. В здании Домзака оказалась карамельная фабрика. Но оконные решетки были на своих прежних местах — должно быть, для защиты от воров. Правда, экранов-намордников, окончательно отрезавших узников от внешнего мира, я уже не обнаружил...
Группу заключенных из шести политических и десяти уголовников вывели с вещами в тесный внутренний двор тюрьмы. Раннее утро начала октября 1927 года. У каменной, в несколько ступенек, лестницы толпятся конвойные.
Распахнулись одни ворота, другие — и мы пустились в недолгий путь по бакинским улицам. Идти под гору, к морю, было легко, и я жадно смотрел по сторонам.
Нас, шестнадцать арестантов, охраняла команда из четырнадцати человек, и солнечные зайчики разлетались с обнаженных клинков...
Перейдя Набережную, мы разбираем с подводы вещи и, минуя главный вход, через узкую дверь в деревянном заборе выходим на Красноводскую пристань. Сквозь щели между затоптанными досками видно, как ходит внизу вода, ухает о столбы-сваи. Пароход — огромный, черный — уже под парами. Из высокой трубы, перепоясанной широкой красной полосой с серпом и молотом, клубами валит дым...
Я задерживаюсь, окидывая взглядом город, карабкающийся по склонам холмов вокруг бухты. Торчат в небо нефтяные вышки на Баиловских высотах, ближе ко мне красуется гордый силуэт Девичьей башни, еще ближе видны деревянные постройки купален. Море близ пристани подернуто многоцветной, переливающейся на солнце нефтяной пленкой, и стоят у причала парусные лодки для прогулок.
В моем детстве и отрочестве Баку был бурно растущим губернским центром.
Его население прибавляло более, чем по десять тысяч человек ежегодно: в 1922 году в городе и прилегающих поселках нефтяников проживало 335 тысяч человек, а в 1926-м — уже 384 тысячи. Между тем еще в середине девятнадцатого века Баку был задворками Российской империи, уездным захолустьем в составе Шемахинской губернии. Но в 1859 году произошло землетрясение, от которого в Шемахе упало все, что способно было упасть.
Когда из Санкт-Петербурга пришло высочайшее повеление о переносе губернской столицы и Баку, возмущению чиновников не было предела. Шемаха издревле была центром виноделия и ковроткачества с горными водными источниками; Баку же, расположенный на знойном и безводном Апшеронском полуострове, считался пригодным лишь для ссылки преступников. Однако в 1869 году в окрестностях города ударил тугой фонтан нефти.
— Вах, шайтан,— в ужасе перешептывались невольные свидетели этого зрелища.— Пришел конец времен, Иблис из Земли встает!
Но Иблис, как мусульмане называют своего сатану, был абсолютно не при чем: первую скважину заложили в Балаханах русские геологи. А спустя год по соседству на глубину 20 сажен — 42,6 метра — пробурили вторую скважину, которая в сутки стала давать по 700 пудов, или 11,2 тонны нефти. Казалось, это невероятно много; никто и вообразить не мог, что к концу будущего, двадцатого века самая продуктивная скважина мира, находящаяся в Иране, станет давать нефти ровно в... тысячу раз больше!
Царское правительство убедилось, что Апшерон таит в себе несметные сокровища. Для их добычи решено было использовать самый мощный инструмент — частную инициативу. В конце 1872 года провели торги на сдачу казенных нефтеносных земель в аренду, а уже со следующего 1873 года открылась эра свободного промышленного развития русского нефтяного дела.
В 1901 было добыто 670 миллионов пудов, что соответствовало половине всей мировой добычи нефти и 95 % российской. Баку охватил настоящий нефтяной бум. Тогда-то и приехали сюда из Белоруссии в поисках лучшей доли мои будущие родители. Нефтепромыслам требовались рабочие руки, и власти снисходительно относились к евреям, которые переселялись в Баку из своих нищих местечек. В 1906-м мои родители поженились...
Наконец после томительного ожидания мы по команде поднимаемся на палубу и по сходням спускаемся на шаткие мостки. Раннее утро. Солнце только выползает из-за окружающей бухту гряды. И небо, хотя и обожженное на самом краю, еще не голубое, скорее серое, даже пепельное. Я украдкой оборачиваюсь на бескрайнюю водную рябь. Прощай, мой Баку...
(...)
Весной 1935 года Лейтман с семьей (на короткое время) вернулся в Баку.
— Ты заметил, как отступило море за эти годы? — спросил брат.
— Купальни оказались на берегу,— кивнул я. — А Девичью башню словно отодвинули в сторону...
Полностью воспоминания С.М.Лейтмана можно прочесть ЗДЕСЬ
Источник:
Сайт Фонда Сахарова