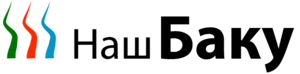Багиров Эйюб Газрат-Кули оглы - экономист-бухгалтер, репрессирован Версия от 19:08, 14 апреля 2010; I am (обсуждение | вклад)
Багиров Эйюб Газрат-Кули оглы - экономист-бухгалтер, репрессирован[править]
1906 - 1973
Родился в 1906 году в г. Ленкорань (Азербайджан). Отец – Газрат Кули, торговец (ум. 1906). Мать – Сугра (р.1881).
После революции семья разорилась. В 1920-е годы начал работать счетоводом в райфинотделе, женился, родились сыновья - Фикрет и Мирза.
В 1930 году переехал в Баку и начал работать заведующим Бакинским финансовым отделом. Был избран членом президиума Бакинского Совета, членом Наркомфина.
В декабре 1937 года был арестован и заключен в тюрьму НКВД Азербайджана. После многочисленных допросов, избиения, пыток следователь Х. Халдыбанов предъявил обвинение. Несмотря на отказ подписать 31 марта 1939 года обвинительное заключение, был вынесен приговор Особого Совещания при НКВД СССР: 8 лет ИТЛ.
4 июля 1939 года начался этап на Колыму.В ноябре 1939 года прибыл в лагерь Бутыгычаг Тенькинского горнопромышленного управления Дальстроя. Условия содержания заключенных быди ужасные, но выручала помощь заключенных-кавказцев. Работал на строительстве рудообогатительной фабрики. Обращение в различные руководящие органы с просьбой о пересмотре дела результата не имели. Был направлен на строительство дорог.
В мае 1940 года был переведен в лагерь Сеймчан Юго-западного управления Дальстроя на строительство горнообогатительной фабрики. Работал учетчиком, экономистом-нормировщиком. Началась переписки с родными, разрешены посылки из дома.
Начало Великой Отечественной войны ужесточило режим содержания. Обращение на имя М.И. Калинина с просьбой об отправке на фронт осталось без ответа, был направлен на торфоразработки.
В июне 1946 года был освобожден с запретом выезда за пределы Колымы. Переехал в поселок Омсукчан, где работал по вольному найму экономистом. Вскоре приехала жена. Начал хлопоты о снятии судимости.
В 1949 году переведен на работу начальником отдела снабжения в Омсукчанское геолого-разведочное управление.А в 1950 году полученил разрешения на краткосрочный выезд с Колымы для лечения. В январе 1951 года поехал на лечение в Железноводск, а затем Кисловодск. Сумел нелегально встретиться с матерью, но обнаружил слежку. Не дожидаясь повторного ареста, досрочно вернулся из отпуска на Колыму. Начал работать в геологоразведке.
В 1956 году был реабилитирован и вернулся в Азербайджан.
С 1957 по 1963 год работал заместителем заведующего финотделом Бакинского совета. А в 1963 году вышел на пенсию.
В июле 1973 года Эйюб Багиров скончался.
Я родился в городе Ленкорань в Азербайджане.[править]
Менее года было мне, когда я потерял отца Газрат Кули. Несмотря на преуспевающее материальное положение отца, который был видным торговцем, после Революции, с раннего детства, я оказался в нужде и лишениях. Мать моя оказалась неумелой распоряжаться имуществом мужа. Неприспособленная к жизни, доверчивая и наивная по натуре, она быстро оказалась в окружении предприимчивых родственников мужа и вскоре сама была на грани нищенства, так и не узнав, куда так быстро исчезли ее материальные блага.
Я помню, в первые годы после Революции, еще мальчиком, от нужды превратился в мелкого торговца. Навесив на шею дощечку-лоток с папиросами "Рица", зазывая покупателей, я плутал по узеньким улочкам зеленого уездного города Ленкорань. Начав работу с простого счетовода в Ленкоранском райфинотделе в середине двадцатых годов, в 1930 году перебрался в Баку и вскоре выдвинулся на должность заведующего Бакинским финансовым отделом. В дальнейшем был избран членом президиума Бакинского Совета, был утвержден членом Наркомфина СССР. По этому поводу помню постановление Совнаркома СССР от 31 декабря 1936 года за подписью В.М.Молотова. Куда бы меня не направляли на работу, я старался честно и добросовестно выполнять свои обязанности.
Особенно тяжело было финансовым работникам в период раскулачивания в сельских районах, когда обобществлялись земля, скот и имущество крестьянина. Кроме принуждения, искусственно завышенные налоги дополнительно разоряли крестьянские хозяйства. Каким только приемам не прибегала власть, используя налоговую политику.
Припоминаю такой факт: власти города по указанию парторганов, велели закрыть единственную в Баку немецкую церковь-кирху, довольно достопримечательное здание в центре города, расположенное на Телефонной улице (ныне улица 28-го Мая). Различным ухищрениям прибегали власти и НКВД для закрытия кирхи; инспирировали наличие в кирхе антисоветского центра, утверждалось, что настоятели церкви и некоторые прихожане - завербованные агенты фашистской Германии и т.п. Попытки идти в лобовую в этом вопросе не привели к успеху, так как вопрос принял международный характер. На жалобы из Баку и из-за рубежа, в начале 1937 года вмешался с протестом небезызвестный всесоюзный прокурор А.Ю.Вышинский, Наконец, нашли тихий путь решения вопроса. Обязали финансовые органы незаконно обложить церковь таким большим налогом, чтобы церковь оказалась не в состоянии его погасить и быстро разорилась, перестав функционировать.
Меня всегда мысленно сопровождал и такой факт из жизни, который мог послужить поводом для тирана республики Мир-Джафара Багирова велеть меня арестовать, хотя после моего ареста НКВД инкримировал мне официально "участие в антисоветской организации правых".
В один из осенних дней 1937 года звонит мне сам "хозяин" Мир-Джафар Багиров и поручает проверить финансовую деятельность бывшего Председателя Бакинского Совета Олина Арнольда Петровича. Дело в том, что большой сталинский террор в стране не миновал и руководство Баксовета. Так, осенью 1937 года из одиннадцати членов Президиума Баксовета остались на свободе лишь двое, в том числе и я. Остальные были репрессированы НКВД. Олин также был арестован недавно органами НКВД, как "враг народа".
Мир-Джафар Багиров дал мне срок один месяц для проверки и результаты проверки приказал доложить ему лично. В разговоре он сказал, что Олин кроме вражеской деятельности, занимался еще транжиро-ванием финансов Баксовета на личные цели, являлся морально разложившимся человеком. Проверив финансовую деятельность руководства Баксовета, спустя примерно месяц, я доложил Мир-Джафару, что в этом вопросе грубых нарушений не удалось обнаружить. Я хорошо помню, как Мир-Джафар Багиров резко оборвал меня ругательством и разговор прервал. Только когда наступила пауза по телефону, я ясно услышал его слова, обращенные по другому служебному телефону к наркому внутренних дел Сумбатову-Топуридзе: "Эйюба Багирова из Баксовета самого надо проверить".
Что последнее означало, я ясно себе представлял. Я тогда понял, что меня ожидает участь моих коллег из Президиума Баксовета и тысяч других лиц уже томящихся в застенках НКВД.
Мир-Джафар Багиров был верным сатрапом Сталина. На многих встречах и собраниях, а я помню одну такую встречу в Бакинском оперном театре, он называл Сталина "живым Лениным". Стиль и методы сталинского руководства им широко внедрялись в Азербайджане и малейшее возражение его замыслам в любых вопросах жестоко пресекалось. Мне помнится его кошунственное решение о сносе старейшего бакинского кладбища с многочисленными захоронениями, в нагорной части города и строительство на его месте парка культуры и отдыха имени С.М.Кирова. Нас работников Бакинского совета даже выводили на субботники по строительству этого нагорного парка. Однажды, я лишь успел поставить под сомнение, с точки зрения финансовых затрат, строительство на место кладбища нагорного парка, как меня угрожающее отдергнули из ЦК партии Азербайджана.
Арест[править]
Не пришлось долго ждать, и когда 22 декабря 1937 года под утро пришли за мной на квартиру трое энкаведешников и четвертый стоял на улице у машины "черный ворон", я понял - наступила моя очередь. Я только приехал из командировки, из Москвы, где состоялся годичный отчет перед Наркомфином СССР. Двое энкаведешников рылись в комнатах, другой составлял протокол обыска. Дворник дома как понятый сидел в проходной на стуле. Обыск производился формально, ибо искавшие наверное заранее знали, что ничего интересного для себя они не найдут.
Во время обыска я наивно спросил у старшего оперчекиста за что меня забирают. Он ответил мне, что у тебя будет беседа с наркомом внутренних дел, возможно и вернешься домой. Сбор личной одежды с собой и даже шерстяных носков, свитера, свидетельствовали, что забирают меня надолго. Тогда я невольно вспомнил вышеописанный разговор по телефону с Мир-Джафаром Багировым и знал, что последствия подобного разговора с ним мне не миновать.
На улице, уже рассветало, хотя день был зимний. Перед самым выходом у дверей я успел лищь сказать домашним, "вы знайте, я не в чем не виноват". В это время моя племянница Билгеиз, жившая у нас в доме громко заплакала. Я сам, где то в глубине души, искренно полагал, что все, что происходит со мной это недоразумение, разберутся на месте и выпустят. Очевидно, также думали многие сотни тысяч не в чем неповинных людей, разделивших, в те годы, мою участь.
Проехав все еще безлюдные улицы города наш черный воронок медленно заехал через массивные стальные ворота здания НКВД на набережной.
Известное многим Бакинцам административное здание НКВД Азербайджана (дом на набережной) высокая 3-х этажная постройка, лишь внешне обрамляет находящееся внутри его двора, здание тюрьмы. Четырехэтажная тюрьма, довольно толстыми стенами, решетчатыми окнами, лабиринтом тянется по периметру этого здания. Здесь же во дворе котельная, автономное электропитание, гараж. Первый этаж здания тюрьмы занимали подсобные помещения, туалеты, душевые, помещение охраны, и т.п. Подвалы здания, бывшие в дореволюционное время винными погребами, выходят далеко к морю и использовались как камеры усиленного режима, карцеры.
По обе стороны длинных коридоров тюрьмы, разделенные на секции решетчатыми дверьми из толстых металлических прутьев с засовами, находились камеры на одного, двух и более десяти арестантов. Поскольку в 1937-38 годах арестов в Азербайджане было много, то камеры тюрьмы были переполнены арестантами. При открытии охранником решетчатых дверей коридорных секций загорало световое табло и срабатывала звуковая сигнализация.
Камеры с цементными полами выглядели как обычные; проем для подачи кормушки, над потолком тусклое освещение, прикрытое кожухом, глазок для наблюдения за заключенными. Решетчатые окна камер 30х40 см выходили в основном во внутренний двор тюрьмы. На втором этаже решетчатые окна камер дополнительно прикрывались металлическим козырьком, даоы кусочек неба не был виден. Некоторые помещения тюрьмы, вдоль коридора, входящие в светлую сторону двора использовались как кабинеты следователей.
В административное здание НКВД с его просторными кабинетами можно было войти как с улицы через парадные входы, так и незаметно с тюремного здания. Перила междуэтажных лестниц административного здания НКВД, куда иногда выводили на допрос политзека, с участием больших чинов НКВД прикрывались металлическими сетками, чтобы не допускать выброситься арестанту.
В эти годы повальных арестов, на пятачках улицы, примыкающей к зданию НКВД выставлялись вооруженные винтовками солдаты. Казалось, что власть делала все, чтобы ни при каких обстоятельствах арестант не выполз из этого зловещего здания. Ведь здесь путь назад, вновь на волю, казался, был отрезан навсегда и виновность должна быть доказана любыми средствами.
Позже от сокамерников я слышал, что смертные приговоры приводились в исполнение в самих подвалах НКВД или же в близлежащих недалеко от Баку, островах Каспийского моря, как остров Наргина и другие, где не было живых свидетелей, и выстрелы никем, кроме палачей не были услышанными. В моем уголовном деле мне инкриминировали, в основном, участие в антисоветской организации, возглавляемой А.П.Олиным.
А. П.Олин и обвинения против меня[править]
А.П.Олин - Председатель Бакинского Совета, латыш по национальности, партиец с 1918 года, был в числе латышских стрелков, охранявших Кремль, работал в политотделах Среднеазиатского и Закавказского округов. С 1931 года по 1934 годы являлся секретарем Закавказского Крайкома ВКП(б) по транспорту и снабжению. С 1934 по 1936 годы являлся постоянным представителем Закавказья при Совнаркоме СССР, жил и работал в г. Москве. Перевели его в г.Баку в 1936 году, и с июля того же года он был назначен Председателем Баксовета Арестовали его осенью 1937 года вызвав в Москву, а позже расстреляли в Тбилиси.
По существу я знал Олина А.П. всего несколько месяцев, по совместной работе в Бакинском Совете Был он человек не очень общительный, строгого нрава и требовательный в работе.
Уже позже, сидя в застенках НКВД Азербайджана, я понял, что Мир-Джафару Багирову и Сумбатову-Топуридзе нужно было от меня получить компрометирующий материал на Олина и я был арестован как участник мнимой контрреволюционной, антисоветской организации, во главе которой стоял Олин.
Я, как его сослуживец, якобы был завербован им. Мои допросы следователем Х. Халдыбановым начались буквально через 3-4 дня после ареста и начинались с вопроса как меня завербовал Олин в свою антисоветскую организацию, которая ставила целью свергнуть советскую власть, реставрировать капитализм и даже прибегала к диверсионной деятельности в народном хозяйстве.
Обвинения выдвигались самые нелепые. Назывались имена широкого круга лиц, среди них лица, о которых я понятия не имел. В несуществующую контрреволюционную организацию якобы входило около 20 человек: люди разных возрастов и профессий, работающие в различных учреждениях и предприятиях, в частности в Бакинском Совете, райкомах партии, исполкомах, на нефтепромыслах, в строительно-снабженческих организациях.
Чувствовалось, что я являюсь маленькой пешкой в политической игре Мир-Джафара Багирова и Сумбатова-Топуридзе в их намерениях любыми путями добыть порочащие показания на руководящих работников республики и Бакинского Совета. По показаниям ранее арестованных, председателя Баксовета Олина и его заместителя Кудрявцева, полученным в результате морального и физического воздействия на них, следователь каждый раз при допросе меня запугивал, угрожал расправой, требовал подтвердить конкретную дату (конец марта 1937 года), когда я был якобы завербован в антисоветскую организацию.
Помню, однажды меня привели к самому наркому внутренних дел Сумбатову-Топуридзе, который мне прямо сказал: "подтверди, что ты завербован в организацию Олина и мы тебя отпустим". Не получив ответа, он меня ударил по щеке и в этот день меня более суток держали по стойке смирно, применяя рукоприкладство до потери сознания. Неоднократно спускали в темный, сырой подвал, угрожая расстрелом, вновь загоняя в общую камеру. Сидя в подземельях НКВД, мы со временем научились перестукиванием через камерные стены по "азбуке арестованных" узнавать о последних новостях с воли и о том, кто появился новым арестантом НКВД.
Допросы следовали день за днем и для правдоподобности состряпанного обвинения, следователь каждый раз "вкладывал" новые "факты" от имени лиц, которых арестовали по "нашему делу". На мои неоднократные просьбы об очной ставке с этими лицами, следователь отказывался и не вызывались свидетели, подтверждающие мое участие в контрреволюционной организации. Со временем, к политическим мотивам ареста примазали, для сгущения "дела", факты якобы о грубых нарушениях мною финансовой, хозяйственной деятельности Баксовета.
Дело доходило до беспочвенных обвинений о том, что я якобы искусственно снижал и незаконно списывал недоимки с кулаков в г. Ленкорани и зажиточных крестьян на Апшероне, прикрывал финансовые преступления арестованных "врагов народа", препятствовал открытию новых ломбардов в г. Баку, чтобы озлобить население против советской власти. Действительно, в те годы тяжелое материальное положение населения заставляло людей закладывать личные вещи на хранение в ломбарды, чтобы свести концы с концами. Тогда в ломбардах города выстраивались длинные очереди и чтобы заложить свою вещь в ломбард, зачастую очереди занимались с ночи. Уходили дни, прежде чем сдашь свою вещь в ломбард.
Предъявляли мне смехотворные обвинения в том, что озлобленное население выражало недовольство по поводу подписки на государственные займы и я, как финансист якобы сочувствовал таким недовольным людям, и более того, свое возмущение высказывал в кругу работников Бакфинотдела.
Во время допросов я понял, что для получения на меня компромата, еще задолго до ареста, НКВД заставлял советские органы г.Ленкорани, отдельных лиц писать доносы-докладные на меня о моем прошлом, семейном и имущественном положении отца и т.д. По указке НКВД первичная парторганизация Баксовета написала на меня характеристику о том, что я поддерживал и имел порочные связи с "врагами народа".
Уже позже я, при первой возможности, из колымских лагерей писал много заявлений на имя руководителей страны и НКВД об абсурдности предъявленных мне обвинений. В одном из них даже указывал, что конкретная дата 25 марта 1937 года, когда я, якобы был завербован руководителями Баксовета в контрреволюционную организацию, председатель Баксовета Олин находился в Москве, а его заместитель Кудрявцев - на Украине, т.е. физически они в Баку отсутствовали.
Там, где словесная угроза следователя не помогала "расколоть" меня, в ход пускалось физическое воздействие, били резиновыми дубинками, шпорами кованых сапог до ран и кровотечений. У меня даже, до сегодняшнего дня сохранились на левой ноге шрамы от травмы, нанесенной мне шпорами сопога сержанта - чекиста. При этом, следователь наблюдая это садистское зрелище невозмутимо выкриковал "Нарком велел из тебя сделать яичницу".
Однажды я испытал на себе и широко используемый в НКВД для физического и психического воздействия на обвиняемых, допрос методом "конвейера". Поместили меня в одну из ярко освещенных электрическим светом комнат, стоял я на ногах, рядом табуретка, однако не имеешь право садиться. Следователи задавали примерно одни и те же вопросы, наподобие, "Это глупо не признаваться, есть свидетели письменно подтверждающие ваше участие в "антисоветской организации правых", отпираться не будете от очевидных фактов. Назовите кто еще участник вашей организации и ваша участь облегчится".
Я настаивал в качестве свидетелей допросить моих ближайщих работников Бакфинотдела и соседей по дому; Лунева С., Абдуллаева М., Алиева М., Акимова М., и других с кем я повседневно общался. Однако мои обращения оставались безответными. Так повторялся следующий круг вопросов, а я продолжал стоять на ногах, а следователи несколько раз менялись.
Наконец, измученным, в полусознательном состоянии, приводили меня в камеру. Так проходили день за днем 18 месяцев (около 600 дней и ночей) так называемого "предварительного следствия" в застенках НКВД Азербайджана. Менялись следователи (у меня их трижды поменяли), временами они смягчались - не допрашивали неделями, оставляли в покое так и не предъявляя обвинительного заключения.
Наконец 31 марта 1939 года я увидел состряпанное НКВД на меня "дело". Отказался подписать обвинительное заключение. После этого, "дело" дважды формально направляли в суд; однажды в спецколлегию Верховного суда Азербайджана, а в другой раз - военную коллегию Закавказского военного округа. Однако мое "дело" так и не рассматривалось на судах, как я был уверен, трудно было с доказательствами.
Но наша судьба политзеков тогда была предрешена заранее. 9 июня 1939 года, заочно Особым Совещанием при НКВД СССР я уже был приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей "за участие в антисоветской организации правых". 1 июля 1939 года мне объявили решение Особого Совещания. Вскоре, через несколько дней, начался наш длинный и долгий этап на Колыму. Все же где-то в глубине души мы рассчитывали, что партия во многом разберется. Этой надеждой и верой мы жили тогда, в те трудные дни жизни.
Этап[править]
Из Баку, кажется с 15 пристани (сейчас она снесена и на ее месте продлен бульвар - приморский парк), нас вывезли 4 июля 1939 года. Привезли нас на морскую пристань на тюремных машинах из находящихся недалеко подвалов НКВД Азербайджана, где я просидел уже более полутора лет.
Некоторые родные и близкие, узнав о нашей отправке по этапу, пришли на пристань. Виделись издали, махали руками, слезы на глазах, но конвоиры не давали возможность приблизиться. Мельком я увидел мать Сугру и дочь Лятифу.
Многие заключенные были помещены в трюмы парохода. Нас привезли в Красноводск, затем поместив в переполненные вагзаки и вагоны, в которых обычно возят скот, повезли дальше, не обявляя конечного пункта этапа. Вагоны четырехосные, зарешеченными окнами и трехэтажными нарами. В передней части вагона вооруженные конвоиры - надзиратели, вертухи. Они часто проводили проверки, заключенных считали, как скот, перегоняя с одной части вагона в другую. Иногда не выводили нас на оправу, что было противоестественно и зеки мочились и испряжнялись прямо в вагоне. У щелей дверей вагонов каждый из нас старался вдохнуть хоть глоток свежего воздуха, так как в вагоне была невыносимая духота.
Мы преодолели четырехмесячный путь по Турксибской дороге, миновали среднюю Азию, Сибирь, Забайкалье, и Дальний Восток. Жара и духота, непомерная теснота в вагоне, продолжительный этап и жизнь в проголодь делали свое дело. Ослабевшие, изможденные заключенные старшего возраста погибали в пути, и их трупы выбрасывали. Было немало случаев, особенно в средней Азии, когда жители сел и поселков узнав, что мы заключенные, пытались подбросить нам хлеб и другую пищу, но конвоиры не допускали этого. Наши вагоны часто отцепляли от состава и загоняли на безлюдные участки железной дороги, чтобы с нами никто не общался. Вокзалы оставались в стороне от наших жизненных путей. Из разговора одного конвоира мы, наконец, узнали, что конечный путь нашего этапа - Магадан.
Кроме репрессированных военных, среди нас оказались также немало заключенных из старых большевиков. Некоторых из них я узнал. Среди них был Ульянов Иван Васильевич (дядя Ваня), Ахундов Ширали, Каракозов Арменак, Агамиров Халил и другие. Здесь также проявилась сталинская "профилактика"; исключить из общества тех людей, которые хорошо знали революционную историю и имели о ней свое суждение. Накануне отплытия из Владивостока в Магадан, последнюю ночь в пересылке мы не спали. Чувствуя наше настроение, к нам, к молодым, подошел "дядя Ваня" и по отцовски сказал: "Не унывайте, будьте сильными духом и смелыми в ожидающих вас трудностях. Сохраняйте свою преданность народу до конца и покажите себя в деле освоения этого необжитого края нашей земли". Он обнял и поцеловал нас, своих земляков, пожелав благополучия. Ульянова Ивана Васильевича я знал с юных лет, когда он в первые годы после революции в Азербайджане являлся ответственным секретарем Ленкоранского уездного комитета партии.
Знали его мы по Баку, как авторитетного работника бакинской партийной организации, революционера, члена партии с 1903 года. Ульянов говорил страстно и убежденно. Я вспомнил тогда взволнованную речь Ульянова, произнесенную им в декабре 1934 года, на траурном заседании Бакинского Совета в связи с убийством С.М.Кирова. Его язык был понятным и доступным для всех, будь то отсталый крестьянин, образованный интеллигент или религиозный фанатик. Я никогда не забуду его напутствие в то страшное время во Владивостоке.
Прощальный призыв этого обаятельного, мудрого человека вселял в нас оптимизм, в трудные годы пребывания на Колыме. Добавлю, что наряду с надеждой, маяком спасения на Крайнем Севере для нас оказался также труд. Труд подневольный, страшный, был потребностью самой жизни на суровом севере и оказался стимулом к самосохранению. Кто с самого начала это понял, тот оказался и победителем в единоборстве с жестокими и беспощадными нравами Крайнего севера.
В длительном этапе, среди заключенных оказались заболевшие и люди пожилого возраста, которых невозможно было использовать, "трудягами" на Колыме. Поэтому "энкаведисты" списывали их на материк. Некоторых из них оставили в пересылочных лагерях Иркутска и Владивостока. Многие не дотянули до срока заключения и нашли свою смерть в таежных лесах Сибири и Дальнего Востока. Примером тому - известный Азербайджанский писатель и драматург, незабвенный Гусейн Джавид. Он был тогда уже в возрасте, надломленный тюремной камерой, плохо видел. Больным он был отделен от нашего этапа в Магадане и позже отправлен в пересылочный лагерь Иркутской области. Ночью наш пароход отшвартовался от пирса Владивостока и взял курс на Магадан. Во Владивостоке мы оставили Ульянова Ивана Васильевича, Ахундова Ширали, Агамирова Халила и других товарищей.