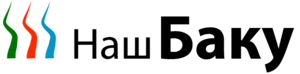Лазебников Ефим – нефтепромышленник
Лазебников Ефим – нефтепромышленник[править]
Из книги Эстер Маркиш
"СТОЛЬ ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ…"(Воспоминания) Издание автора. Тель Авив.1989. 500 экз.
- Памяти расстрелянных 12-го августа 1952 года
И по сей день Баку разделен на две части: Черный город и просто Город. Нынче нет границы между двумя этими частями, и Черный город так же зелен, как и «Белый». В начале века Черный город был средоточием зарождающейся нефтяной промышленности. Буровые вышки и нефтекачалки торчали там из земли, подобно голым железным кустам и деревьям.
Там, в Черном городе, стоял дом моего отца Ефима Лазебникова – нефтепромышленника, владельца нефтяной земли. Там бы и появилась я на свет, если бы моя мать, Вера Марковна, не решила за несколько месяцев до родов отправиться к своим родителям, в Екатеринослав.
Вера Марковна не случайно отправилась к родителям – Марко и Ольге Кричевским. Родственные связи в семье Кричевских были на редкость крепки и сердечны. Мудрая и деятельная Ольга Львовна Кричевская до конца своих дней оставалась незыблемым авторитетом для детей – пятерых сыновей и дочери Веры, моей матери. К бабушке Оле обращались за советом, приходили в беде и в радости. Такие же отношения сложились впоследствии между мной и моей матерью, между моими детьми и мною. Наши мужчины умирали рано, и женщины занимали места мужчин.
Бабушка Оля работала вместе с дедом Марко – управляющим домами и складами екатеринославского богача банкира Кофмана. В квартире одного из его домов они и жили.
Там я родилась 6 февраля 1912 года.
Через несколько месяцев моя мать вместе со мной вернулась в Баку.
Мы жили богато – нефть приносила отцу большие доходы. Отец любил широкую жизнь, красивые вещи. Получив техническое образование во Франции, он хорошо разбирался в нефтяном деле. Во Франции он и познакомился с моей матерью, изучавшей там медицину. За год до знакомства с моим отцом мама приехала на Юг Франции вместе со своей семьей, спасаясь от российских погромов 1905 года. Родители мои поженились в 1907 году, и мама так и не закончив курс учения, уехала с отцом в Баку. Спустя год родился мой брат Александр.
Многие бакинские евреи относились неодобрительно к образу жизни нашей семьи: мы жили слишком роскошно. В 1914 году мой отец одним из первых в Баку приобрел автомобиль. Толпа зевак глазела на это детище технической революции – особенно, когда лошади вытаскивали из жирной нефтяной грязи вдруг застрявшую нашу машину.
Напрасно Ефим Лазебников купил эту машину, – говорили бакинские евреи. – Напрасно Лазебников так балует жену и во всем ей потакает – ее бриллианты еще больше привлекают внимание к ее красоте. На нее заглядываются и христиане и мусульмане…
Моя мать, действительно, была очень хороша, и когда кто-нибудь называл фамилию моего отца, то немедленно следовал вопрос: Какой это Лазебников? Тот, у которого красавица-жена?
Но отец мой не обращал внимания на эти разговоры и жил по своему собственному усмотрению. Наш дом в Черном городе, а потом квартира на Биржевой всегда были полны гостей, наша кухарка Кондратьевна славилась на весь Баку своим кулинарным мастерством.
Родители мои не отличались религиозностью – хотя отец, естественно, имел постоянное место в синагоге и давал немалые деньги на ее содержание. Единственным праздником, отмечавшимся в доме торжественно и с соблюдением традиции, была Пасха. Отец читал Агаду, я искала спрятанную мацу. Рассказы об исходе из египетского рабства еще много дней после Пасхи занимали детское воображение моего брата и мое…
Брат мой Александр или Шура, как звали его в семье, к удивлению родителей, стал крайне религиозным. В доме восстановили нарушенную было кашерную кухню – к большому одобрению наезжавшего в гости моего деда по отцу, синагогального кантора Мойше. Кухарке Кондратьевне растолковали законы кашрута, и она, поворчав, смирилась. Не вникнув в суть дела, она считала разделение пищи на мясную и молочную барским самодурством.
Русская революция опрокинула наш уклад, вывернула жизнь как перчатку – наизнанку. Отец воспринял революцию как свершившийся факт, к которому следовало приспособиться ради дальнейшей жизни. А приспособиться было сложно: нефтяной промысел отобрали.
Отец шутил горько:
– Я все-таки был прав, а не те евреи, что меня осуждали. У них все отобрали точно так же, как и у нас. Но мы хотя бы успели пожить по-человечески.
В 1918 году, захватив меня и брата, мама отправилась в Екатеринослав навестить своих родителей, от которых давно уже не было вестей. Отец остался в Баку.
Великие события в России – обе революции и последовавшая вслед за ними гражданская война – прибавили хлопот и забот евреям приднепровского города Екатеринослава. Евреи не строили радужных планов по поводу происшедших изменений: многовековая история их существования неопровержимо доказывала, что любые изменения в окружающем обществе приводят к травле евреев, к грабежам, погромам и убийствам. Поэтому, когда на екатеринославские улицы высыпали разгоряченные водкой, потрясенные безнаказанным попранием вчерашних запретов люди, – наученные опытом поколений евреи стали полегоньку готовиться к погрому.
Начали с малого: разобрали и растаскали деревянные заборы, отделявшие дом от дома. Это незначительное на первый взгляд действие продиктовано опытом прошлого и имеет немалое практическое значение: бежать и спасаться от погромщиков куда легче по открытой, очищенной от заборов местности. Перелезать с малыми детьми через деревянные частоколы – дело трудное, почти невозможное.
Наша семья – моя мать, мой девятилетний брат и я, младшая – отсиживались в дворницкой дома банкира Кофмана на Широкой улице. То была улица, населенная преимущественно евреями – и толпа погромщиков направилась именно сюда. Зазвенели выбиваемые стекла окон, пух вспарываемых перин поплыл в воздухе. Потянуло запахом гари – где-то что-то подожгли…
Дворник Гаврила, служивший верой и правдой моему дедушке, проявлял нервозность. С тревогой вслушивался он в пронзительный, приближавшийся с каждой минутой крик толпы людей: «Караул!»
– Шибко нынче бьют… – сказал, наконец, Гаврила. – Пойду гляну, – и вышел.
А крик «караул» все приближался, бился где-то за соседними домами.
– Гаврила нас не выдаст, – сказала мама. – Но если они ворвутся сюда… – она надеялась, что бандиты пройдут мимо – ведь не в каждый дом они заглядывали.
Вернулся Гаврила – озабоченный, мрачный.
– Бегите, – сказал Гаврила, – спасайтесь… Рабиновичей уже поубивали.
Рабиновичи были наши соседи, жили в нескольких домах от нас.
Мама поднялась, крепко взяла нас за руки:
– Идемте, дети!
Мы вышли из жарко натопленной дворницкой – в черную сырость ночи. Грязь осени хлюпала под ногами, и мне казалось, что эта грязь замешана на крови старого Рабиновича, бородатого, с большим добрым животом… А может, это мне сейчас кажется так. Может, в ту осеннюю ночь я только дрожала от страха.
…Много лет прошло с тех пор – больше полувека. События давнего времени окаменели в моей душе, приобрели резкие очертания постоянства. Дворник Гаврила кажется мне сейчас порядочным человеком – может, так оно и было…
Мы бежали по чужим дворам, подгоняемые этим жутким, извивающимся как бич стоном: «Караул!» Один из домов был, как будто, покинут хозяевами. Мама втащила меня и брата в распахнутую дверь первого этажа и вбежала в комнату.
В углу комнаты, наполовину закутанный, как в саван, в сорванную гардину, лежал человеческий труп. Погромщик стоял над ним на коленях – обшаривал карманы. Обернувшись на шум наших шагов, он заметил бриллиант, сверкнувший в кольце на маминой руке. Поднявшись с пола, он схватил маму за руку, за палец – стаскивал кольцо.
– Убери руку, – спокойно сказала мама. – Сама отдам.
Тут кто-то окликнул погромщика из другой комнаты:
– Эй, Пашка!
Пашка пьяно повернулся, побежал, топая сапогами, на зов.
А мы выпрыгнули в окно и побежали дальше – в поисках угла, норы, где можно было бы укрыться хотя бы до утра.
Воспоминания об екатеринославском погроме – это, пожалуй, первое, что я запомнила в своей жизни достаточно стойко. Мой отсчет времени начинается с той осенней, хлюпающей грязью и кровью ночи. Первая память – как первый оттиск гравюры: самая отчетливая, самая резкая. Светом памяти озаряются почти все сколько-нибудь значительные события в жизни. И это озарение – не солнечное, не лунное. Это озарение пожара, зажженного руками убийц еврейских стариков.
.......
Погромы тоже происходили ночью, И молчаливая, сосредоточенная беготня из дома в дом, по ничейной, не исковерканной более символом собственности – заборами – земле, тоже ночью. Днем отсыпались и победители, и побежденные, и мы, евреи, спасшиеся от радости победителя и ярости побежденных.
В один из таких дней за нами приехал из Баку мой отец. Он намеревался всеми правдами и неправдами втолкнуть нас в поезд, вывезти из обезумевшего Екатеринослава и вернуть домой.
Сделать это, однако было не просто. Целыми днями отец ходил по городу, добывая всевозможные «охранные грамоты». Однажды ранняя осенняя ночь застала отца за этим его занятием.
Ночь была черна – как будто тушь разлили. Выбитые окна зияли чернотой на фоне далекого пожара. На одной из близких улиц слышался цокот конских подков и топот ног. Где-то стреляли. Никто толком не знал, в чьих руках находится город – даже те, кто наступали, и те, кто оборонялись.
Прижимаясь к стенам зданий, отец пробирался домой. До дома оставалось не больше квартала, когда топот копыт за спиной заставил отца врасти в землю и застыть. И в следующий миг удар нагайки упал на его спину, и наехавший конь упруго и сильно толкнул его, чуть не сбив с ног.
Всадник, наклонившись с седла, заглянул в лицо отца. Пахнуло запахом лука и водочного перегара.
– Жид… – словно подтверждая свою догадку, сказал всадник. – Ну, пойдем, жид.
И еще раз несильно ударив нагайкой, он погнал отца перед собой.
Бежать было некуда, и спастись было невозможно. Скользя по глинистой грязи и оступаясь, отец бежал перед конем. В конце улицы завернули влево, в подворотню. За ней открылся проходной двор, и дальше – тупиковый.
В тупиковом дворе горел высокий, яркий костер. Десяток солдат в разномастной одежде – красных галифе, зеленых и синих френчах, тулупах и дорогих дамских манто, смушковых шапках с красными лентами и без лент – сгрудился у костра. Здесь же стоял пулемет на станине. Чуть поодаль кружком сидели на грязном снегу около двадцати евреев. Некоторых из них отец знал: то были уважаемые в городе люди, состоятельные и знатные. Отец кивнул старому бородатому еврею – директору еврейской гимназии. Второй, владелец краскотерной фабрики не ответил на поклон: глаза его были закрыты, лицо залито одним сплошным синяком.
Около пленных топтался, куря папиросу, часовой,
– Кончаем, что ли? – окликнул приятелей всадник, пригнавший моего отца. – Скоро светает… А ну, вставай! – гаркнул он, наезжая на сидящих в грязи евреев.
Те медленно поднялись, гуртясь.
– Одежу-то сымите! – лениво, без нажима приказал часовой, сбивая пленных поплотнее стволом винтовки с примкнутым штыком. – И обувку тоже. И к стеночке становитесь рядком… Ну, ты, Абрашка! – грозно крикнул он на средних лет еврея, замешкавшегося с раздеваньем.
Пригнавший отца всадник, все так же не слезая с седла, содрал с него пальто. Отец скинул туфли с галошами и, увязая по щиколотку в жидкой грязи, пропитанной конской мочой, подошел к стене.
– За что? – еле шевеля губами, сказал отец. А потом крикнул: – За что?
Один из солдат уже ложился, подстелив кожух, за пулемет.
Повернувшись лицом к кирпичной стене забора, несколько евреев молились, раскачиваясь. Один сполз в грязь, и его не подымали.
И вдруг во двор въехал, влетел на коне коренастый всадник с длинными темными волосами. По быстроте и угодливости, с какой солдаты оборотились к нему, можно было заключить, что приехавший – их начальник.
Отец мой отпрыгнул от стены, подбежал к всаднику.
– За что, господин начальник? – спросил отец, вцепившись в конский повод. – За что они нас хотят расстрелять?
– Действительно, за что? А? – шутя, подыгрывая голосом, спросил всадник у солдат.
– Так они ведь жиды, батько! – объяснил тот, что лежал за пулеметом. – Кончаем мы их!
– Отпустите нас, господин… батько, – сказал отец, не отпуская повода. – В чем мы виноваты? Только в том, что мы – евреи?
– Отпустить их, что ли? – словно бы за советом обратился батько к своим людям. Те молчали, не смея говорить.
– Идите, пожалуй, по домам! – сказал батько, заворачивая коня. – Ну, быстро! Побежали!
Отлепившись от стены, евреи побежали прочь. Одежда их черным комом громоздилась посреди двора.
Побежал и отец, отпустив, наконец, повод.
– Эй, еврей! – закричал вслед ему батько. – Стой! Отец остановился, оледенев. Что мог означать этот окрик?!
– Галоши надень, еврей, а то простудишься! – довольный, засмеялся батько.
Отец добежал до подворотни и исчез в темноте улицы.
Человек, спасший его от казни и смерти, был, Нестор Махно.
Отцовское спасение от смерти было, несомненно, случайностью и фактором временным. Бессмысленная, дурацкая гибель висела над нами, как камень. И отец ломал голову, выискивая щелку спасения.
– Нам бы добраться до Кисловодска, – говорил папа мечтательно. – Оттуда до Баку рукой подать.
– Нас всех убьют в дороге, – говорила мама. – Придумай что-нибудь!
И папа придумал.
Мы найдем русского генерала, – сказал папа. – Или, на худой конец, полковника…
Генерала не нашли – пришлось удовлетвориться полковником. Поскольку путь на Кисловодск пролетал по областям, контролируемым белыми войсками, то и полковник, естественно, был белым полковником. Папа разъяснил ему его задачу: он, полковник, будет выдавать себя за нашего дедушку или папу – как ему больше нравится – и стоять в дверях купе в полковничьем мундире, когда погромщики появятся в вагоне. Полковник согласился, и папа вручил ему денежный аванс за предстоящий труд.
Через несколько дней мы пустились в дорогу. Полковник приехал за нами в экипаже. Грудь полковничьего мундира украшали многочисленные ордена, усы его с подусниками были приведены в идеальный порядок. То был интеллигентный человек, с чувством собственного достоинства. Ему, видно, было несколько неловко, что он – в его годы и в его положении – зарабатывает деньги столь необычным образом. Поэтому он предпочел – быть может, скрывая смущение – смотреть на нас как на багаж. Когда в вагон, гремя сапогами, ввалились очередные «проверщики», полковник приоткрывал дверь купе, становился на пороге и, покуривая, пускал колечки дыма.
– Я еду с семьей, – безразличным голосом сообщал полковник, когда погромщики подходили к нашему купе. Никому и в голову не могло прийти, что полковник белой русской армии везет в своем купе евреев.
На Кисловодском вокзале полковник получил от отца вторую половину своего гонорара, и мы распрощались с ним.
– Мы поедем в самую лучшую гостиницу! – решил отец. – Так безопаснее.
Войдя в роскошный гостиничный номер в сопровождении администратора и коридорных служащих, отец оглядел стены номера, а потом, переведя негодующий взгляд на прислугу, грозно стукнул тростью об пол.
– Негодяи! – взревел отец. – Русскому человеку жизни нет!.. Иконы где?!
Распорядитель лепетал извинения, коридорные побежали за иконами. По гостинице пополз слух, что в двенадцатом номере поселился «сибирский купец-миллионер, большой самодур».
А отец, укрепляя наши позиции, требовал самовар, бублики, черную икру и водку.
Мы вернулись в Баку, потрясенные пережитым, привыкшие к виду крови, к смертельной опасности, – но не к новой жизни. Да и в Баку многое изменилось за время нашего отсутствия… И отец принял решение уехать из России. Оформление документов требовало множества хлопот и еще больше денег. Следовало решить, куда ехать – и отец долго над этим не раздумывал: не Америка влекла его, а Палестина. Еще в 14 году брат моей мамы Натан уехал в Палестину и примкнул к халуцианскому движению. Он жил в Петах-Тикве, близ приморского городишки Тель-Авива. Отец дал ему знать о своих планах и намеревался встретиться с ним по дороге в Палестину, в Константинополе.
Однажды в дверь нашей квартиры, ранним утром, замолотили кулаками. В Баку правили тогда большевики – 26 бакинских комиссаров, расстрелянных впоследствии англичанами. Мы привыкли к внезапным посещениям, и мать, открыв дверь, впустила в переднюю группу солдат с винтовками.
– Очищайте квартиру! – приказали солдаты. – Наш начальник будет здесь жить!
– У меня дети! – сказала мама. – Куда я с ними денусь? На улицу?
– Ладно, – решили солдаты, посовещавшись. – Вы – буржуи, поэтому надо вам страдать. Переходите в две комнаты, а наш начальник будет жить в четырех!
К вечеру пришел начальник. Им оказался один из 26 комиссаров – правителей города, Алексей Джапаридзе. То был идеалист, наивно веривший, что всем людям на земле может быть одинаково хорошо. О том, что всем людям на земле под властью идеалистов может стать одинаково плохо – над этим комиссары не задумывались. Уничтожить людей, сомневающихся в будущем «всеобщем счастье» или противившихся ему – это был первый, святой долг революционеров-идеалистов. Вначале они делали свое страшное дело – веря. Так же веря – потом они умирали под пулями своих друзей и своих врагов. Джапаридзе расстреляли англичане. Его семью – жену и дочерей – Сталин продержал в лагерях до самой своей смерти.
Алексей Джапаридзе оказался человеком приятным и даже застенчивым. Ему видно, было неловко нас стеснять.
– Оставайтесь в четырех комнатах, – решил Джапаридзе, – а я и в двух умещусь…
Из Баку в Москву[править]
.......
В самом начале 1921 года долгожданные документы были оформлены, и мы поехали в Батум, чтобы сесть там на пароход. То был большой пароход под итальянским флагом «Корнара». Отец купил хорошую, просторную каюту, и мы устроились там с удобствами. На борту «Корнары» мне исполнилось девять лет – на борту корабля, везшего нас к берегу новой жизни.
Константинополь был переполнен русскими эмигрантами всех мастей и оттенков. После недолгого постоя в гостинице мы сняли квартиру у бездетных евреев Наума и Лизы, владельцев небольшой гостиницы в портовом районе. Лиза уезжала в свою гостиницу часам к двум дня, а возвращалась перед рассветом. Наум наведывался туда редко – все дела вела энергичная Лиза. Добрые супруги осыпали меня и моего брата ласками и подарками, – особенно мадам Лиза.
Отец сообщил о нашем приезде Натану в Петах-Тикву, и Натае обещал приехать за нами. А мы с братом пока что начали ходить в школу. Я училась в закрытом заведении, у монашенок-француженок, возвращалась домой только на субботу и воскресенье, а Шуру определили в колледж Святого Иосифа.
Наконец, прибыл из Палестины мамин брат – Натан. То был красивый молодой человек, покрытый бронзовым загаром. Любвеобильная мадам Лиза немедленно перенесла свою чувствительность на красивого киббуцника, чем несколько насторожила мою проницательную маму.
В один прекрасный день, гуляя с Натаном по городу, мы потеряли ключ от квартиры и поехали в гостиницу мадам Лизы за запасным. Ни я, ни Натан никогда не бывали там прежде, и нам потребовалось немало времени, чтобы добраться до грязной портовой улочки. На порогах домов этой улочки сидели весьма условно одетые женщины – блондинки, брюнетки, старые и молодые, восточные и европейские. Над входом в «гостиницу» мадам Лизы висел аккуратный красный фонарик.
Назавтра, подыскав предлог, мы съехали с квартиры бездетных супругов. Отец посмеивался, мама была шокирована: почти полгода прожили мы у содержателей публичного дома.
Натан много и подолгу беседовал с отцом, рассказывал ему о палестинских делах, о своей жизни в Палестине. Жизнь эта была трудной, приспособлены к ней были только сильные духом люди. Для занятия же коммерцией требовался начальный капитал, какого не было у моего отца. По эмигрантским константинопольским кругам поползли тем временем слухи о НЭПе – новой экономической политике большевиков, допускающей ограниченную частную собственность и, главное, коммерческую инициативу.
И отец, оставив нас в Константинополе, отправился «на разведку» в Одессу, посмотреть своими глазами на НЭП.
Новая ситуация пришлась ему по вкусу. Возвращаясь к нам в Константинополь, он заехал в Баку и подготовил там все необходимое для открытия собственного производства красок. Множество заказов на краски сулило неплохой доход, большевики, нуждавшиеся в специалистах, пели красивые песни и обещали чуть ли не все блага мира. И отец, поверив, решил вернуться в Россию. Это решение стоило ему свободы, а потом и самой жизни.
Осенью 1923 года мы вернулись в Россию и опять поселились в Баку.
Бакинские предприниматели, выжившие в урагане революций и гражданской войны, были настроены оптимистически: НЭП цвел, как клумба. Отец с головой ушел в работу, расширял производство красок, привлекал к работе маминых братьев – толковых и деловых молодых людей. Только одному из них – Натану – не требовалась помощь: он жил в Палестине, в Петах-Тикве, ходил в драных штанах и без обуви, – и был счастлив.
Вновь живя в роскоши бакинской квартиры, мы часто возвращались мысленно к дяде Натану. Не совершили ли мы, все-таки, ошибку, вернувшись в Россию, не уехав в Палестину? Натан говорил тогда резко: кто не хочет или не может работать физически, кто не располагает капиталом для организации собственного дела – тому нечего делать в Палестине. Бедный мой отец, сибарит и барин, не приспособлен был для работы на строительстве или для выращивания апельсинов. Зыбкость собственного положения по возвращении в Россию угнетала его все больше.
Дело его, казалось бы, процветало, но он то и дело повторял моему брату и мне:
– Наследство я вам вряд ли оставлю – поэтому учитесь, пока есть возможность. Учите языки, занимайтесь музыкой.
Я с самого детства занималась балетом – и продолжала эти занятия после возвращения в Баку из Турции. Мне пришлось расстаться с балетом позже, когда мои занятия «баржуазным» искусством помешали моему вступлению в комсомол и грозили мне многими неприятностями.
А покамест мы жили в бакинской Крепости – Старом городе, окруженном древней крепостной стеной, с красивейшей Девичьей башней, стоявшей у моря. Когда-то, по преданию, с этой башни бросилась в море молодая девушка, познавшая отчаяние неразделенной любви…
В школе, куда я пошла учиться, меня приняли довольно прохладно. Причин тому было несколько: и моя модная, «заграничная» одежда, и относительно неплохое знание французского языка, выделявшее меня из среды моих товарок, и увлечение балетом, и «социальное происхождение»: я ведь была дочерью нэпмана.
Метод обучения в советской школе был в то время в высшей степени удивителен. Носил он название «Бригадный метод Дальтон-план» и сводился к тому, что класс был поделен на бригады и каждая бригада выучивала только свою часть урока, даже не заглядывая в соседнюю. Дореволюционный метод обучения был объявлен «реакционным», «контрреволюционным», «регрессивным». Математику я усваивала трудно, гуманитарные же дисциплины давались мне легко. Быть может, я должна быть благодарна за это частным учительницам: отец пригласил для меня француженку, другая учительница преподавала мне историю литературы.
А в школе мы зубрили совсем новую дисциплину: обществоведение. На одном из уроков преподавательница с материалистических позиций подбивала нас «работать с родителями», отучать их от приверженности к религии.
– Религия – опиум для народа! – возглашала учительница. – Бога нет и никогда не было. Все это сказки врагов революции. Не ведя дома разъяснительной атеистической работы вы, тем самым, поддерживаете врагов революции и мировую буржуазию.
Мы, двенадцатилетние дети, думали над словами учительницы. Многие были склонны поверить ей. Вдруг поднялась одна из учениц, сказала;
– Моя бабушка соблюдает все еврейские праздники. Она очень старенькая. Зачем я стану бороться с ней? Разве она приносит кому-нибудь зло?
– Скажи своей бабушке, – выкрикнул с места мальчик по имени Ким (Коммунистический Интернационал Молодежи), – пускай бросает свои жидовские штучки!
Все дети в классе были потрясены: Ким оскорбил евреев. В разноплеменном Баку почти не было антисемитизма – мне, во всяком случае, не приходилось с ним сталкиваться. И вдруг – в собственном классе…
Мы решили устроить над Кимом общественный суд, и я должна была выступать на нем в качестве общественного обвинителя: мои соученики считали, что у меня неплохо подвешен язык.
В самом ответственном месте моей обвинительной речи Ким поднялся с места и сказал:
– Ну, чего вы на меня все набросились? Я просто пошутил. Я ведь и сам еврей.
Негодованию нашему не было предела, и мы долго не разговаривали с Кимом.
.....
Смерть Ленина не сохранилась отчетливо в моей памяти. Помню только протяжно-тоскливые гудки паровозов, помню смятение отца: что теперь будет, как повернется наша «нэпманская» судьба?
Судьба расправилась с нами довольно круто: в начале 1925 года отца арестовали. Официальный и окончательный разгром НЭПа еще не наступил – поэтому наиболее крупные частные предприятия начали сворачивать «потихоньку». Отца обвинили в том, что он, якобы, взял с заказчика в качестве взятки пять рублей. Обвинение было смехотворным – но отца осудили на три года тюрьмы, а предприятие конфисковали в пользу государства.
Начиналось сталинское наступление на НЭП, крупных нэпманов ждала тюрьмы. Лучше было сесть раньше, чем позже, и в этом отношении отцу повезло: он сел одним из первых, а поначалу условия содержания в тюрьмах были вполне сносными. Тюрьма, в которой я сидела в 1953 году, отличалась от отцовского «дома отдыха», как небо от земли.
Суд постановил, что отец должен выплатить рабочим выходное пособие и возместить все убытки, понесенные разными лицами в связи с закрытием предприятия. Мама распродала все наше личное имущество и расплатилась до копейки. И вот, наконец, нам дали свидание с отцом. Мы отправились в пригород Баку – Баилов, где расположена была тюрьма. По дороге я рисовала себе страшные картины: арестанты с железными кандалами на руках, сырые склепы камер.
Свидание состоялось в тюремном саду, разделенном невысокой железной решеткой. Отец выглядел неплохо, ему, правда, досаждали соседи-уголовники и клопы, в обилии расплодившиеся в грязных камерах. Тюремное начальство, однако, приметило отца и собиралось использовать его в конторской работе. Это несколько облегчило бы его бытовые условия.
И, действительно, в скором времени отца перевели в тюремную контору.
После этого дела пошли на лад. Как-то раз к нам домой явился тюремный надзиратель и заявил, что отец желает за свой счет отремонтировать и заново покрасить камеру, а также уморить всех клопов и тараканов. Мама немедленно наняла бригаду рабочих, и те привели отцовскую камеру в порядок. Отцу было разрешено также получить из дома металлическую кровать с матрацем. Вольготно жилось когда-то зекам в баиловской тюрьме, честное слово…
Отец отсидел полтора года и был выпущен досрочно «за примерное поведение». В последние полгода он частенько наведывался – в сопровождении надзирателя, разумеется – домой обедать. Надзиратель сидел с нами, хвалил кухню, а потом уходил на час-другой, оставляя отца с семьей.
После первой отсидки отец устроился на работу в «Азнефть» – «Азербайджанскую нефть». Не прошло и года, как к нам ночью ворвались чекисты, перевернули все вверх дном и снова арестовали отца. Донос, как выяснилось, носил анекдотический характер: будто, работая в тюремной конторе, он умышленно изводил слишком много бумаги и чернил. И отец вернулся домой спустя сутки. Однако теперь он твердо решил уехать из Баку навсегда. Он наивно полагал, что в огромной Москве забудут его «буржуйское, нэпманское прошлое» и оставят его в покое.
На сборы много времени не требовалось: отец мой был окончательно разорен. Родители уехали, а я осталась в Баку заканчивать школу. Брат мой Александр, 18-летний юноша, также незадолго перед тем уехал в Москву «зарабатывать пролетарское происхождение»: с отцом – бывшим нэпманом – нельзя было рассчитывать на какой-либо успех в жизни, а Александра тянуло к газетной, журналистской работе. Работая в Москве на фабрике, он сотрудничал одновременно в газетах. Никому не нужная работа на фабрике была, собственно говоря, «официальным перевоспитанием». Без «пролетарского настоящего» нашего Шуру просто-напросто не стали бы печатать.
Мама надеялась, что Шура поступит в Университет, станет «дипломированно» образованным человеком. Шура – в трех тысячах километров от Баку – мамину надежду не сокрушал, но в Университет поступать не собирался. Его уже печатали, он подписывался псевдонимом «Алазэ» (Александр Лазебников). В нем проявились задатки хорошего журналиста, и он, действительно, спустя несколько лет стал заместителем заведующего отделом газеты «Комсомольская правда». Его ждала судьба многих крупных журналистов: в 37 году он был арестован вместе со всей редакционной коллегией своей газеты, обвинен в шпионаже, отправлен в концентрационный лагерь. Он провел там девятнадцать лет и вышел на свободу, реабилитированный, уже после смерти Сталина. Нашему Шуре повезло: он остался жив.
Итак, родители отправились в Москву, где отец поступил на службу в управление «Главнефть». Я осталась в Баку – доучиваться, заканчивать школу. Бакинская жизнь текла размеренно, скучно, провинциально. Возможно, какие-то страсти – политические, экономические – и были присущи ей, но я находилась далеко от тех сфер, где температура подымалась выше нормы.
Поэтому вдвойне крупным событием для нас – школьниц, школьников – стал приезд в Баку трех известных московских поэтов: Иосифа Уткина, Александра Безыменского и Александра Жарова. Все трое назывались «комсомольскими поэтами», все трое были молоды, пользовались огромной по тем временам популярностью. Все трое, кстати сказать, были евреи.
Уткин, автор знаменитой «Поэмы о Рыжем Мотеле», посвященной Троцкому, погиб во время Второй мировой войны в авиационной катастрофе. Он был талантлив – несравненно талантливей, во всяком случае, Жарова и Безыменского. А эта пара уцелела ценой предательства собственных юношеских розовых идеалов. Жаров писал подписи к агитплакатам, Безыменский, который до самой смерти по мере сил стриг купоны с прошлого, заслужил такую эпиграмму, сочиненную его же коллегами-поэтами:
- Волосы дыбом,
- Зубы торчком,
- Старый дурак
- С комсомольским значком.
Так что судьба Иосифа Уткина сложилась не так уж и плохо: не погибни он на фронте, ему пришлось бы либо сидеть в лагере, либо вести жалкую и подленькую жизнь «вечно юных комсомольских поэтов» Безыменского и Жарова.
В 27 году, естественно, речи об этом не было. Просто приехали московские поэты – и все. О билетах на поэтический вечер нечего было и мечтать: они были проданы, перепроданы, розданы, распределены. Понимая несбыточность надежд по части билетов, я и две мои подружки сидели на скамейке приморского бульвара. На соседней скамейке устроился молодой мужчина с блокнотом для набросков и карандашом в руках. Мне показалось, что он рисует меня, и я, выросшая на мусульманском Востоке, поднялась со скамейки, чтобы уйти,
– Постой, – сказала одна из моих подруг, останавливая меня, – это же Ротов!
Художник Константин Ротов приехал из Москвы вместе с поэтами. Он подошел к нам и попросил меня ему попозировать.
– Посиди, пожалуйста, спокойно, девочка, – сказал Ротов, – и я дам тебе пропуск на сегодняшний вечер.
Видя умоляющий взгляд моих подруг, я сказала ему:
– Ладно. Но мне надо три билета: нас трое.
Вечером, сидя на ступеньках в переполненном зале, мы слушали стихи, рассказы Уткина о его визите к Горькому на Капри.
Несколькими днями позже я уезжала в Москву к моим родителям, навсегда. У меня было мало денег и я купила себе билет в жестком вагоне. Мои бакинские родственники, у которых был большой опыт путешествий по советским железным дорогам, советовали приковать железной цепью к моей полке чемодан со скромным его содержимым: вагоны кишели жуликами и поездными воришками.
На одной из остановок я заметила прогуливавшегося по перрону Уткина, сопровождаемого восхищенными взглядами его многочисленных поклонниц. Красивый, заграничного покроя вязаный жилет был накинут на его плечи, на ногах, подобно ярко светящимся уголькам, горели красные сафьяновые домашние туфли.
Мне, которая мечтала о кожаной куртке и в тайне от родителей носила кепку, такой наряд комсомольского поэта показался просто святотатством. К тому же он ехал в спальном вагоне, что, как мне думалось, приличествовало лишь «богатеям», а не пролетарскому поэту. Советские лозунги прочно, подобно татуировке, осевшие в моем сознании, с новой силой вспыхнули, когда я глядела на Уткина. На одной из остановок Ротов заметил меня. Он подошел и представил мне Уткина и еще двух своих товарищей. В ответ на мои возмущенные высказывания Уткин сказал мне:
– Если пишут хорошие стихи, за них получают деньги. Так почему же не тратить их на проезд в удобном и комфортабельном вагоне и не покупать красивую одежду! Что ты скажешь?
Этот ответ Уткина не имел ничего общего с лозунгами, укоренившимися в моем представлении, и я задумалась над сказанным Уткиным. Вообще-то, Уткин был прав, но мне, чтобы постичь это, надо было преодолеть серьезные препятствия: годы, проведенные в школе, сделали из меня если и не фанатичную комсомолку, то, по меньшей мере, существо с весьма ограниченным мировоззрением. Но советская жизнь так устроена, что очень скоро с моих глаз спали и розовые очки, и шоры, надетые на них школой.
Весной 1928 года в Москве открылся шестой съезд Коммунистического интернационала молодежи. Я работала на нем переводчицей с французского в отделе Геминдера, казненного в 1952 году в Чехословакии, после процесса Сланского.
.....
Несколько месяцев спустя после съезда КИМа, получив отличные рекомендации в качестве переводчицы, я поступила на филологический факультет Московского университета.
После Баку Москва казалась мне огромной, лоскутнопестрой, дикой. Жизнь представлялась чистой страницей, которую только предстояло исписать. И немножко страшно было браться за перо…
"Золото" моего отца[править]
Весной 1931 года пришло время произвести мне на свет ребенка. Рожать я уехала в Баку, к родственникам: в Москве были трудности с устройством в родильный дом, да и боялась я – а бабушка Оля звала меня к себе. Маркиш бурно радовался рождению сына, – он назвал его Симоном, а мне мой мальчик, конечно, казался самым красивым, самым смышленным, самым, самым, самым… К девяти месяцам он заговорил – и это тоже было удивительно.
С рождением сына у Маркиша совпал выход пьесы «Нит гедайгет» – на сцене театра Корш она называлась «Земля». Для Маркиша это была «проба пера» в драматургии, и успех первой же пьесы был ему приятен. Он собирался продолжать писать пьесы от времени до времени.
.....
...перед вечером, в дверь нашего дома постучали.
– Лазебникова можно видеть? – осведомился какой-то человек.
– Он еще не вернулся с работы.
– Извините, – сказал незнакомец, отходя от подъезда.
Мы не придали значения этому визиту, даже не вспомнили о нем, когда пришел отец. Не успел он, однако, сесть за стол, как в дверь снова постучали, и отец вышел в переднюю – открывать.
Прошла минута, две – отец все не возвращался. Мы с мамой вышли на улицу – и увидели отъезжающий от нашего дома автомобиль.
На сей раз отца арестовали, не предъявив ордера, даже не поставив в известность его семью.
Сутки мы сидели дома – в слезах, в отчаянье. Потом почтальон принес письмо без обратного адреса. В конверте лежал клочок бумаги со словами: «Прошу того, кто найдет эту записку, отправить ее по такому-то адресу…» На другой стороне бумажки отец писал: «Меня везут в вагоне для арестантов. За что забрали – не знаю. Кажется, едем в сторону Екатеринослава. Записку выброшу в окно на ближайшей станции – даст Бог, кто-нибудь подымет».
Получив записку, узнав, что отец жив – мама тут же начала действовать самым энергичным образом. Она разыскала бывших екатеринославских дельцов-нэпманов – вернее сказать, их семьи: мужчины все поголовно были арестованы, увезены в Екатеринослав. Жены арестованных рассказали моей маме то, чего она не знала: началась «золотуха».
Каждый город выполнял и перевыполнял свой план по аресту бывших нэпманов и просто богатых людей. Каждый город хотел арестовать их как можно больше, чтобы заслужить похвалу и одобрение – поэтому подымались домовые книги и другие документы, там отыскивались когда-то жившие здесь, а потом уехавшие в другие города граждане. Агенты ЧК отправлялись в эти города и хватали там своих жертв – втихомолку, как моего отца, чтобы арестанта не успел «присвоить» себе другой город.
Мой отец никогда не был связан делами с Екатеринославом – но был женат на екатеринославке, как значилось в книге Записи актов гражданского состояния. Вот и решили, для «увеличения счета и выполнения плана» арестовать его и отвезти в Екатеринослав. «Золотуха» шла по стране Советов! Потом тяжело заболел и слег в постель мой отец. Он мучился тяжелыми приступами стенокардии – последствия пребывания в Днепропетровской тюрьме в период «золотухи». Он отдавал себе отчет в том, что служит причиной его болезни, но – человек мягкий и добрый – не ненавидел, не презирал своих губителей.
Отец мой Ефим лежал в постели, тихо умирал. В конце лета 37 года его перевезли в больницу, и врачи не обнадеживали нас. Однажды утром – накануне вечером мы долго сидели у постели отца – нам позвонили, сказали, что отец умер. Мать, узнав, вскрикнула.
– Дедушка умер! – сказал маленький Симон. – Я тоже не буду больше жить! – мальчик любил деда.
И мама, сдерживая рыдания, уговаривала ребенка, что дед жив, просто болен, плохо себя чувствует.
На кладбище пришли наши друзья, друзья Маркиша – еврейские писатели. Они сохранили добрые чувства к моему отцу – доброму и мягкому человеку, убитому русской революцией.
Год потопа[править]
Началась черная полоса и в жизни моего брата. Его журналистская карьера складывалась, казалось бы, вполне удачно: он работал заместителем заведующего отделом информации газеты «Комсомольская правда». Шеф Шуры, Ефим Бабушкин, также еврей, был ближайшим другом знаменитого советского летчика Валерия Чкалова, человека смелого и справедливого.
Главным редактором «Комсомольской правды» был кадровый комсомольский работник Александр Бубекин. В 1937 году он был арестован как враг народа и предатель социалистического отечества. Ему много еще предъявили обвинений: и в шпионаже в пользу иностранной державы, и в намерении убить Сталина. Вскоре после ареста Бубекина новый главный редактор, Михайлов, занявший впоследствии, уже после смерти Сталина, пост Первого секретаря ЦК комсомола, а потом и Министра культуры, созвал совещание сотрудников-евреев.
Всем им было предложено изменить еврейские фамилии на «русские»: Розенцвейгу – на Борисова, Розенфельду – на Михайлова, моему брату – на Ефимова. Евреи возмутились и отказались, а Шура, не откладывая дела в долгий ящик, написал письмо «сильному человеку в Кремле» – Вячеславу Молотову. Неожиданно быстро Шуре позвонили из секретариата Молотова и поблагодарили за «сигнал». Тем не менее операция, разработанная, по всей видимости, где-то «наверху», продолжалась: в той же «Комсомольской правде» Маркишу предложили подписать стихотворение, поставленное в номер, чужим именем – Петром Марковым. Маркиш, естественно, отверг это предложение с гневом и негодованием.
Шура в ту ночь, наутро после которой должно было быть опубликовано это стихотворение Маркиша, как раз дежурил в типографии. Он первым узнал о предполагаемой замене имени Маркиша. Он узнал также, что снять имя Маркиша и заменить его на «русское» приказал лично Главный редактор Михайлов. В ту же ночь Шура написал второе письмо Молотову, ответа на которое не получил. Зато оба письма-обращения осели в досье моего брата и использовались против него после его ареста.
Вскоре после ареста Александра Бубекина в «Комсомолке» произошли и другие аресты. Был арестован Шурин шеф – заведующий отделом информации Ефим Бабушкин. Его друг – летчик, герой Советского Союза Валерий Чкалов добился разговора со Сталиным и ручался головой за Бабушкина. «Кремлевский горец» – так назвал Сталина в одном из своих стихотворений Осип Мандельштам – в ответ на это произнес свою излюбленную фразу:
– У вас только одна голова, она вам еще может пригодиться!
В это примерно время я поступила на работу в иностранный отдел «Комсомольской правды», но проработала там всего несколько дней: был арестован мой начальник, Саша Филиппов, и я тут же была уволена. Уволили и Шуру – как сотрудника арестованного «врага народа» Ефима Бабушкина. Шура, однако, без труда нашел работу в газете «Советский флот» и уехал от этой газеты на Дальний Восток. Вначале мы получали от него много теплых писем, а потом он вдруг замолчал. Весь апрель от него не было никаких известий. Я позвонила в его редакцию, спросила, не знают ли они там о Шуре. И мне ответили:
– Ваш брат недостоин того, чтобы о нем запрашивали. Вы все узнаете со временем.
Некоторое время спустя в Цыганский уголок пришли с обыском, и Шурину комнату опечатали. Так мы узнали, что Шура арестован.
В это время у нас жила приехавшая из Баку любимая моя бабушка Оля, мать моей матери. Узнав об аресте Шуры, бабушка Оля слегла. В доме воцарилось уныние и паника. Я была нездорова, и Маркиш настоял, чтобы мы с мамой уехали на курорт, в Кисловодск. Ведь мы все равно ничем не могли помочь Шуре.
Не успели мы как следует освоиться в Кисловодске, как получили телеграмму от Маркиша: «Бабушка Оля умерла». Мы приехали на похороны – которые уже за этот короткий промежуток времени! Маркиш был подавлен, грустен. Он был привязан к бабушке Оле, ценил ее тонкое понимание человеческих чувств. Она – терпимая и мудрая женщина – иной раз понимала порывистого, горячего Маркиша куда лучше, чем мои «благопристойные буржуазные» родители.
А в октябре нам сообщили, что Шура осужден на восемь лет лагеря, с правом переписки. Мы принесли ему в Бутырскую тюрьму теплые вещи и рюкзак: его отправляли на Север. Обвинили его в контрреволюционной агитации и участии в подпольной организации.
Маркиш, используя все свои связи, добился приема у заместителя Генерального прокурора страны. Фамилия его была Розовский, он был еврей, посещал иногда еврейский театр. Розовский запросил Шурино дело, прочитал его и развел руками: он ничем не мог помочь моему брату. Под пытками Шура «признался», что состоял в подпольной организации.
Многие тогда подписывали сфабрикованные обвинения – лишь бы прекратились мученья следствия. От Шуры требовали, чтобы он назвал и выдал «сообщников», и брат мой не без иронии написал: «Организация наша была столь засекречена, что ни один из членов не знал другого». Это признание удовлетворило следствие. Позднее, уже во время войны, когда политических заключенных не освобождали, Шура получил в лагере второй срок – десять лет, за… попытку построить на территории лагеря самолет и перелететь к Гитлеру.
.....
В самый разгар так называемой «великой чистки» мы с Маркишем уехали в Тбилиси. Страна пышно и торжественно отмечала 750-летие со дня рождения великого грузинского поэта Шота Руставели. Союзу писателей велено было провести свою юбилейную сессию в Грузии. Маркиш и еще несколько членов Правления получили возможность отправиться в путешествие с женами. Литературный спектакль обещал быть красочным, и я радовалась будущей поездке.
Поехала я, однако, отдельно от Маркиша: решила заглянуть по дороге в Баку. Дело в том, что один из братьев моей матери, Наум, был арестован. Он был помещен в ужасную Сумгаитскую тюрьму, и здоровье его оставляло желать лучшего. Только благодаря своевременным действиям моей энергичной родни удалось добиться пересмотра дела моего дяди. Он вернулся из тюрьмы в Баку инвалидом. В 41 году он погиб от немецкой пули, защищая Севастополь.
Я поехала в Баку, чтобы повидаться с любимым дядькой. Зная, что некогда «сытый» Баку находится нынче на пороге голода, я везла из Москвы продукты и лакомства. В первую очередь они, конечно, были предназначены вышедшему из тюрьмы Науму.
Однако, судьба судила иначе. К моменту выхода из тюрьмы Наума хозяйственный отголосок «великой чистки» коснулся другого моего дядьки – Исаака. Инкриминировали ему «служебное преступления» – не объясняя, какое именно. Так что московская продуктовая посылка пошла не вышедшему из тюрьмы дяде Науму, а севшему в тюрьму дяде Исааку.
В период «великой чистки» сажали не только «политических». Рубили направо и налево и хозяйственников, и в этот период в тюрьме побывали все мои пять дядьев – братья мамы. Их «спасала» бабушка Оля, а маме предстояло целых 18 лет «спасать» своего единственного сына – моего брата Шуру, – ездить к нему в лагерь, возить продуктовые посылки, вызволяя его тем самым от голодной смерти.
Наплакавшись в некогда спокойном и счастливом Баку, я уехала в Тбилиси – к Маркишу.
Шурина эпопея[править]
Брат мой Шура сидел на Севере, в Архангельской области. Маркиш рвался поехать к нему на свидание, проведать его – но я противилась этому: я опасалась, что такая поездка и самого Маркиша может привести в северные края на долгий срок.
К Шуре поехала я вместе с моей мамой, Верой Марковной. Этой поездке предшествовал забавный и в какой-то мере символический эпизод.
Добиваясь разрешения на свидание с Шурой, я пробилась на прием к заместителю начальника Главного Управления Лагерей – ГУЛага. Этот высокопоставленный чиновник-тюремщик – фамилия его была Грановский – принимал близ печально известной Лубянки, к которой и относилось его ведомство. Маркиш пошел со мной, но его не пропустили вовнутрь, и он остался ждать меня на улице: пропуск был выписан на меня, на мою девичью фамилию, которую я носила официально.
Я вошла в кабинет. Грановский вскочил из-за стола, закричал изумленно:
– Это ошибка! Не может быть! Вы не Лазебникова! Вы жена Переца Маркиша!
Оказалось, Грановский отдыхал годом раньше на Кисловодском курорте, где жила также и я. И кто-то сказал ему, указав на меня, что я – жена Маркиша.
Встреченная столь необычным образом, я изложила Грановскому свою просьбу о свидании с братом. Он, к великому моему счастью, подписал мне пропуск на трое суток.
– Но там не только политические! – предупредил меня Грановский. – Там есть и настоящие бандиты! Вы должны быть осторожны!
Тогда я попросила, чтоб он разрешил поехать вместе со мной моей маме. Он тут же «вписал» ее в разрешение.
Потом сказал:
– Вернетесь – обязательно позвоните мне, расскажите, как съездили. Только телефон мой не записывайте – запомните наизусть.
Маркиш провожал нас на Северном вокзале, нес большой рюкзак с продовольствием для Шуры. Он был одет, как всегда: свободное пальто, шляпа надвинута на глаза, шарф перекинут через плечо. Такой «подозрительный» вид привлек внимание милиционера, и Маркиша без долгих разговоров потащили в отделение милиции. Там проверили его документы и отпустили, объяснив на прощание, что ищут какого-то преступника и заподозрили его в Маркише. Перед самым отходом поезда Маркиш подбежал к нам с рюкзаком, и мы сели в вагон.
Путешествие было неспокойным: солдаты патрулей то и дело будили пассажиров, проверяли документы. Кого они там искали – не знаю, может, действовали они просто так, «для порядка». Наконец, поезд притащился к полустанку, откуда нам предстояло добираться до лагеря. Тайга обступала полустанок со всех сторон, в воздухе монотонно гудели комары, нога проваливалась в болотистую почву по самую щиколотку.
Лагерное начальство, к которому мы явились, начало с того, что немедленно аннулировало распоряжение Грановского. Нам было разрешено свидание на два часа, на лагерной вахте.
Но и за эти два часа Шура успел рассказать нам немало удивительного. Его арестовали во Владивостоке и несколько месяцев везли до Москвы, задерживая в ожидании этапов в пересыльных тюрьмах. Познакомившись с методами тюремщиков, Шура пришел к выводу, что в Москве совершен фашистский переворот. «Да здравствует Сталин!» – кричал он сквозь решетки, а тюремщики издевались над ним. Наконец, он попал на Лубянку, к следователю.
Шуру обвиняли во всех смертных грехах, и грозил ему приговор «десять лет без права переписки» – то есть расстрел (в советском законодательстве того времени не было предусмотрено высшей меры наказания, поэтому смертникам давали «десять лет без права переписки») . В последний день «следствия» следователь подозвал Шуру к окну своего лубянского кабинета, к зарешеченному окну,
– Ну, посмотри на Москву в последний раз! – сказал следователь.
Шура глядел на тесный колодец площади внизу, на памятник Воровскому, на снующих по своим делам людей, не знающих или не желающих знать, что происходит за стенами Лубянки.
И в этот миг на следовательском столе зазвенел телефон. Следователь снял трубку.
– Светланочка? Ты? Ну, наконец-то! Муж уехал отдыхать? Какое счастье! Значит, сегодня? Во сколько? Через четверть часа? Буду как из пушки! Сделать доброе дело? Это не совсем входит в мои обязанности… Для тебя? Ну, ладно, что-нибудь придумаем, если ты так хочешь…
Опустив трубку на рычаг, следователь оборотился к Шуре. В глазах следователя прыгали огни неподдельной человеческой радости.
– Ну, вот что, – сказал следователь. – Можешь считать, Лазебников, что родился ты под счастливой звездой. Тут одна девушка попросила меня кое о чем, и я не могу ей отказать, так что ты получишь восемь лет – вместо десяти без права переписки.
И Шура поехал в концлагерь на восемь лет – с почками, отбитыми ему следователем, с выбитыми зубами, с исполосованной шрамами головой.
Два часа свидания промелькнули как минута. Назавтра мы с мамой снова пришли к вахте. Дело было в том, что мы надеялись на еще одно свидания: его обещал Шуре начальник лагерного пункта «Черная речка» Саша Семацкий. Этот Семацкий был славный человек, женатый на еврейке Фане. По просьбе Фани он помогал чем мог евреям-политзаключенным.
Но на вахте, на нашу беду, мы наткнулись на заместителя начальника всего лагеря – некоего Брицкого, настоящего бандита человекогубца. Узнав, в чем дело – без упоминания, естественно, фамилии Семацкого – он велел нам убираться, угрожая в противном случае спустить собак. Через полчаса мы еще бродили вокруг вахты, надеясь на чудо. И тут Брицкий выполнил свое обещание.
Откормленные овчарки бросились на нас. Мы с мамой побежали – спотыкаясь, падая, подгоняемые страхом и отчаянием. На наше счастье, вблизи вахты стоял маленький деревянный домишко – там жили местные люди. Они видели нас и наше бегство и, выскочив за порог, втащили нас в дом. То были добрые люди, муж и жена, которую звали Любушка. Они спасли нас и приютили.
А ночью в избушку тихонько постучался уголовник – ему Семацкий дал пропуск за зону – и принес записку от Шуры. Шура просил нас придти завтра вместе с уголовником к месту работы заключенных – они строили там железную дорогу. Просил он принести для ребят еды какой-нибудь и водки.
Решено было, что на сей раз пойду я одна, без мамы. На рассвете Любушка собрала меня в дорогу – идти предстояло около десяти километров. Любушка дала мне свою крестьянскую одежду, чтобы я не привлекала ничьего внимания, а вот обуви у нее лишней не оказалось, и я отправилась в городских туфлях на каучуке. Часа через два с половиной пути мы пришли к пустующей железнодорожной будке, куда вскоре подошел и Шура. Вынув еду из корзинки, он аккуратно сложил туда десятки писем своих товарищей-заключенных – по возвращении в Москву я должна была опустить их в почтовый ящик: ведь не говоря уже о цензуре, переписка лагеря с волей была строго ограничена.
Не прошло и пятнадцать минут, как раздался телефонный звонок: кто-то стукнул лагерному начальству о том, что в окрестностях лагеря видели женщину в городских туфлях, и Шуре дали знать, что на поиски вышел опер с собакой. Надо было спасаться: если бы меня поймали с письмами, срока мне не миновать. Выбросить письма, однако, я не согласилась.
Чувствуя чугунную тяжесть в коленях и стараясь не оглядываться, шла я по шпалам в сторону станции. Другой дороги просто не было: сойди я с железнодорожного полотна, я утонула бы в болоте… Наконец, слышу – кто-то догоняет меня, окликает так, как звал только брат: «Фируша!» Я понимаю, что это посланец от Шуры.
А посланец объясняет мне, что опасность миновала, что опер сбился с дороги и ушел в другом направлении, что я могу вернуться к Шуре в путевую будку – он уже ждет меня там.
По дороге назад посланец этот поведал мне замечательную историю. Он, оказывается, сидел вот за что: в колхозе, где он работал до ареста, жена председателя отличалась большой слабостью к мужскому полу. Иными словами, всякий мужчина мог добиться ее благосклонности без особых трудностей. В числе облагодетельствованных оказался и мой посланец. Он, однако, отличался игривостью необычайной и на достигнутом не остановился. Желая насолить ненавистному председателю, он в час любовных занятий с его женой оттиснул на ее ягодице колхозную печать, извлеченную тут же, из председательского стола.
Малое время спустя председатель обнаружил «обновку» жены, провел короткое следствие с применением недозволенных приемов и дознался истины. Вслед за тем он написал в район донос о том, что в его колхозе имело место глумление над государственной печатью, и незадачливый любовник получил десять лет лагеря – правда, с правом переписки. «Преступление» квалифицировалось как политическое.
Вернувшись из Шуриного лагеря, я позвонила Грановскому, рассказала ему, как нас травили собаками, как отменили его распоряжение о трех сутках свидания. Рассказ о собачьей травле его, как будто, особо не взволновал – а вот отмена его приказа пришлась ему не по вкусу. Брицкий, во всяком случае, был в скором времени отозван из лагеря неизвестно куда.
Вторично я позвонила Грановскому много лет спустя – уже после ареста Маркиша. Сухой голос ответил мне в трубку, что такой здесь больше не работает. Потом я узнала, что и Грановский не ушел от своей судьбы – он был арестован и, кажется, погиб.
Накануне погрома[править]
Только те, кто пережили вместе с нами черную зиму 1953 года, способны понять, какой неслыханной, фантастической смелостью были эти слова. Они тем драгоценнее, что были сказаны русским человеком.
И еще об одном смелом, благородном поступке хотелось бы мне вспомнить. У Симона был близкий друг, товарищ по университету Александр Сыркин. Его отец, известный химик, член-корреспондент Академии Наук Яков Кивович Сыркин и мать, Мариам Вениаминовна, предложили усыновить Давида, чтобы спасти его от ссылки. Мы отказались, прежде всего, потому, что не хотели подставлять под удар этих прекрасных людей.
Симина защита прошла блестяще. Восторженные оппоненты (о, эти советские парадоксы!) решили даже рекомендовать Симона в аспирантуру. И это решение тоже было – скрытый вызов, не такой-то уж и безопасный для рекомендателей: они ведь знали, что ждет рекомендуемого.
Вечером, из Университета, мы пошли с сыном в кафе и там отметили этот последний праздник на свободе. По советским университетским правилам защита дипломного проекта проводится за несколько месяцев до сдачи Государственных экзаменов, и только после этого студент получает Диплом об окончании высшего учебного заведения. О сдаче экзаменов нечего было даже и мечтать, но и сам факт защиты диплома позволял работать по специальности, правда, не в полном объеме.
Ожидая прихода незваных гостей ночью, мы со старшим сыном старались возвращаться домой как можно позже, поближе к рассвету. Усталые, с тревогой в душе, отправлялись мы после работы в гости к родственникам, чтобы как-то протянуть время. Младшего сына, пытаясь спасти его от тюрьмы (ему исполнилось тогда 13 лет), я отправила в Баку, к родне – прятаться. Это, однако, не спасло мальчика: МГБ быстро его разыскало.
Наши со старшим сыном прогнозы по поводу ночного визита не оправдались: за нами пришли не ночью.
"Где ваши абрамчики?"[править]
Последнюю ночь перед арестом, словно предчувствуя, что эта ночь последняя, мы с Симоном договорились провести вне дома. Он, по обыкновению, отправился в гости к своей подруге по университету, ставшей впоследствии его женой, разделившей по доброй воле с нами ссылку, а я допоздна засиделась у одной из своих подруг, до конца оставшейся мне верной и не боявшейся встреч со мной. Когда, открыв своим ключом дверь, я вошла в квартиру, мне навстречу выбежал Симон и по его возбужденному лицу я сразу поняла, что произошло недоброе.
– Нас вызывают завтра к десяти утра в районное отделение МГБ, – сказал Симон и протянул мне повестку. – Теперь это уже конец!
Симон не ошибся – накануне арестовали семью Бергельсона, за день до них забрали Эду Зускину с дочкой Аллочкой, а днем раньше жену Квитко. Пришла и наша очередь…
Невзирая на поздний час, мы с Симоном отправились на переговорную телефонную станцию – дозвониться в Баку моей маме, попрощаться с ней. Бедная, любимая моя мама! Сколько муки было в ее голосе, когда она спросила: «Я не успею приехать проводить вас?» Потом мы позвонили нашей Ляле в Киев. У нее уже отняли паспорт, значит, и ей не миновать ареста. Вернувшись домой, мы собрали все необходимое. Рано утром, спустившись вниз, из телефона-автомата – наш домашний телефон был отключен некоторое время спустя после ареста Маркиша – я позвонила немногочисленным близким друзьям чтобы проститься с ними…
К девяти утра к нам присоединился племянник Маркиша, взрослый и самостоятельный человек двадцати четырех лет, которого также «приглашали» явиться вместе с нами в МГБ, так как он был прописан в нашей квартире, а потому должен был разделить нашу участь.
Наш Юра имел работу, но не имел желанных девяти квадратных метров пола – поэтому он значился проживающим на нашей площади, хотя фактически снимал комнату у знакомых. Однако, штамп прописки, поставленный в его паспорте, указывал, что он проживает по улице Горького 64, квартира 67. Впопыхах разысканный милиционером, он явился к нам с чемоданчиком, чтобы к десяти часам утра предстать вместе с нами перед эмгебешным начальством. Итак, все вместе мы явились в уже знакомый нам, мирный с виду домик с белыми занавесками, в тихом переулке на Садовом кольце, с опозданием на несколько минут. Открывший нам на наш звонок офицер государственной безопасности строго сказал:
– Вы заставляете себя ждать. Вы опоздали на пять минут.
– А нам уже некуда торопиться, – сказала я.
Появился знакомый мне офицер Мухин, снимавший допрос в ночь на 16 декабря и взявший у меня подписку о невыезде, и с ним еще несколько военных. Окружив нас, они вывели нас во двор, где стоял небольшой автобус. Автобус доставил нас на улицу Горького, и вместе с нашей стражей мы снова очутились в квартире, в которой прожили столько лет. Начальник конвоя, полковник МГБ, заметив сложенные чемоданы, сказал:
– Вы уже успели чемоданы упаковать?
– Мы сознательные советские граждане, – сказала я.
– Тем лучше, – сказал полковник.
Оглядев комнату, он с удивлением обнаружил, что она почти пуста – ни стола, ни стульев. После того, как с нас взяли подписку о невыезде, я продала все, что могла, и последние шесть недель до нашего с Симоном ареста мы жили в пустой квартире.
– Никакой мебели, – сказал полковник. – Где же мебель
– Я все продала, – сказала я. – Нам надо было как-то существовать.
Полковник искал глазами, на что сесть. Я указала ему на единственный табурет. Усевшись, он зачитал решение Особого Совещания, вынесшего нам заочный приговор – десять лет ссылки в отдаленные места Казахстана, с конфискацией всего имущества, как членам семьи изменника родине.
В списке осужденных значился и 14-летний Давид, на отсутствие которого полковник обратил внимание и потребовал, чтобы я немедленно сообщила, где он находится – он пошлет за ним одного из офицеров конвоя. Как мне ни хотелось подводить своих родственников в Баку, у которых скрывался Давид, но пришлось дать их адрес, который и был занесен в акт, чудом сохранившийся в моем архиве. Но адреса полковнику показалось недостаточно, он еще требовал у меня фотографию Давида, дабы ему не подменили малолетнего «преступника»!
.....
Мысли мои неустанно были с Маркишем. Что с ним? Жив ли он? Где Ляля? А что будет с Давидом, если его найдут в Баку? Как умудряется моя мать жить одна, без сына и дочери? Но вот пришло письмо от мамы – Давид вернулся в Москву, ему приказано немедленно отправляться в ссылку. С ним едет наша верная няня, неизменный друг Лена Хохлова, мы можем ждать их прибытия со дня на день. Сколько было передумано, пережито, пока мы увидели нашего «юного преступника»!
.....
Мои первые израилитяне[править]
...в 1965, состоялся еще вечер памяти Маркиша. На сей раз он проводился там, где родился поэт – в украинском местечке Полонное.
В этот вечер мы были все вместе, вся наша семья: Симон, оставивший редакторскую службу в Гослитиздате и принятый в Союз писателей (он переводил с древних и новых языков, писал об античной литературе и о Возрождении), Давид, пошедший по отцовскому пути, пытающий свои силы и в поэзии, и в прозе, и в журналистике, Ляля с мужем Николаем уже успевшие приобрести доброе имя среди украинских скульпторов (Ляля – в области малой пластики, как фарфорист и керамист, Коля – в монументальной скульптуре), мой брат Шура, вернувшийся после 18-летнего перерыва к профессии журналиста. В зале были и моя мама и наши с Маркишем внук и внучка, уже взрослые, двенадцатилетние, Лена Хохлова. А я с обоими сыновьями сидела в президиуме.
Материал взят ЗДЕСЬ